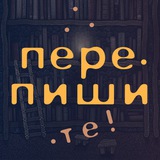Давайте поговорим о том, какие проблемы могут быть у текста и, в общих словах, о том, как их решать.
Я встречал мнение (к сожалению, распространённое и среди моих коллег редакторов), будто для того, чтобы сделать текст хорошим, достаточно найти и исправить в нём все ошибки. Механический такой подход, простой для понимания и в реализации тоже не сказать чтоб сложный. Но в корне неправильный.
На самом деле есть миллиард текстов, вылизанных до блеска, очищенных от любого рода формальных ошибок, но совершенно никчёмных. Мало того, увлёкшись ловлей блох, автор (или редактор) может не заметить, что сам Бобик уже того... Ну то есть не Бобик, а текст, конечно.
Нет, ошибки нужно исправлять. Не надо по первым трём абзацам делать вывод, что Александр Петров тут раздаёт индульгенции. Дочитайте текст до конца, он как раз про ошибки. Просто редактура, да и любая другая правка, требует осознанного подхода. Иначе говоря, нужно понимать: чем вот это вот, что вы собрались исправить, нехорошо — и станет ли хорошо после того, как вы проделаете некоторую работу.
Итак, чем может быть плох текст? На самом деле многим, практически чем угодно.
✖️ Непонятный текст. Читателю может быть неясно какое-то слово или место, либо может быть неясно всё. Бывает, что одна фразочка или сцена, особенно в начале, вводит читателя в заблуждение, и дальше он воспринимает сюжет или информацию неправильно. Что делать: избавляться от двусмысленностей и «птичьего языка»; следить, чтобы все термины, названия и редкие слова были ясны из контекста; тщательно продумывать экспозицию и вообще подачу информации. Категории текстов в зоне риска: научпоп, учебники и самоучители, фантастика и фэнтези по сложным сеттингам, всякая этноэкзотика. Помните, бета-ридеры — ваши первые помощники.
✖️ Разочаровывающий текст. Это, если по-простому, текст, который не понравился читателю, потому что тот ждал другого. Что делать: думать о читателе заранее, да и вообще всегда. Ну или смириться с тем, что ваши тексты непредсказуемым образом то выстреливают, то проваливаются (чаще всё-таки проваливаются).
✖️ Недостоверный текст — иначе говоря, текст, в котором много вранья. Умышленного или непроизвольного — не важно, читатель не будет разбираться, из каких побуждений вы накормили его лапшой. Впрочем, об этом я недавно писал. Что делать: факт-чекинг. Можно ещё показать текст знатоку, если пишете по какой-то плохо знакомой вам теме.
✖️ Скучный текст. Вольтер говорил: «Все тексты хороши, кроме вашего»... пардон, кроме скучного (или что-то вроде :)). Даже учебники нужно писать так, чтобы было интересно, даже справочники, потому что интересные тексты легче читаются и лучше запоминаются. Что делать: учиться писать интересно. Ну или задним числом вколачивать в текст гвозди, как это делали братья Стругацкие.
✖️ Трудный для чтения текст. Договор может читаться тяжело, потому что его главное качество — это точность и однозначность формулировок, а не лёгкость восприятия. Научный трактат может читаться тяжело по той же причине. Тексты всех остальные категорий должны быть посильны для той аудитории, на которую они рассчитаны. Что делать: избавляться от канцелярита; разгружать сложные предложения; не раскатывать абзацы на полстраницы. Ещё: аккуратно подавать информацию, следить, чтобы всё было понятно. И, наконец: думать о читателе. Тут вам на помощь опять спешат бета-ридеры.
✖️ Возмутительный текст. Я знаю не так много ситуаций в литературе, когда задача возмутить человека бывает оправдана и целесообразна. Обычно автор оскорбляет публику по недомыслию. Что делать: понимать, кто ваш читатель и что он готов вам простить.
✖️ Некрасивый текст. Эту проблему я поставил в конец, потому что сама по себе она наименее серьёзная. Только она обычно сопутствует другим проблемам и свидетельствует о том, что автор недостаточно владеет ремеслом. Что делать: сначала научиться писать, потом научиться писать красиво, потом отучиться писать красиво. Ещё: не относиться наплевательски к тексту вообще и к ошибкам в частности.
Я встречал мнение (к сожалению, распространённое и среди моих коллег редакторов), будто для того, чтобы сделать текст хорошим, достаточно найти и исправить в нём все ошибки. Механический такой подход, простой для понимания и в реализации тоже не сказать чтоб сложный. Но в корне неправильный.
На самом деле есть миллиард текстов, вылизанных до блеска, очищенных от любого рода формальных ошибок, но совершенно никчёмных. Мало того, увлёкшись ловлей блох, автор (или редактор) может не заметить, что сам Бобик уже того... Ну то есть не Бобик, а текст, конечно.
Нет, ошибки нужно исправлять. Не надо по первым трём абзацам делать вывод, что Александр Петров тут раздаёт индульгенции. Дочитайте текст до конца, он как раз про ошибки. Просто редактура, да и любая другая правка, требует осознанного подхода. Иначе говоря, нужно понимать: чем вот это вот, что вы собрались исправить, нехорошо — и станет ли хорошо после того, как вы проделаете некоторую работу.
Итак, чем может быть плох текст? На самом деле многим, практически чем угодно.
✖️ Непонятный текст. Читателю может быть неясно какое-то слово или место, либо может быть неясно всё. Бывает, что одна фразочка или сцена, особенно в начале, вводит читателя в заблуждение, и дальше он воспринимает сюжет или информацию неправильно. Что делать: избавляться от двусмысленностей и «птичьего языка»; следить, чтобы все термины, названия и редкие слова были ясны из контекста; тщательно продумывать экспозицию и вообще подачу информации. Категории текстов в зоне риска: научпоп, учебники и самоучители, фантастика и фэнтези по сложным сеттингам, всякая этноэкзотика. Помните, бета-ридеры — ваши первые помощники.
✖️ Разочаровывающий текст. Это, если по-простому, текст, который не понравился читателю, потому что тот ждал другого. Что делать: думать о читателе заранее, да и вообще всегда. Ну или смириться с тем, что ваши тексты непредсказуемым образом то выстреливают, то проваливаются (чаще всё-таки проваливаются).
✖️ Недостоверный текст — иначе говоря, текст, в котором много вранья. Умышленного или непроизвольного — не важно, читатель не будет разбираться, из каких побуждений вы накормили его лапшой. Впрочем, об этом я недавно писал. Что делать: факт-чекинг. Можно ещё показать текст знатоку, если пишете по какой-то плохо знакомой вам теме.
✖️ Скучный текст. Вольтер говорил: «Все тексты хороши, кроме вашего»... пардон, кроме скучного (или что-то вроде :)). Даже учебники нужно писать так, чтобы было интересно, даже справочники, потому что интересные тексты легче читаются и лучше запоминаются. Что делать: учиться писать интересно. Ну или задним числом вколачивать в текст гвозди, как это делали братья Стругацкие.
✖️ Трудный для чтения текст. Договор может читаться тяжело, потому что его главное качество — это точность и однозначность формулировок, а не лёгкость восприятия. Научный трактат может читаться тяжело по той же причине. Тексты всех остальные категорий должны быть посильны для той аудитории, на которую они рассчитаны. Что делать: избавляться от канцелярита; разгружать сложные предложения; не раскатывать абзацы на полстраницы. Ещё: аккуратно подавать информацию, следить, чтобы всё было понятно. И, наконец: думать о читателе. Тут вам на помощь опять спешат бета-ридеры.
✖️ Возмутительный текст. Я знаю не так много ситуаций в литературе, когда задача возмутить человека бывает оправдана и целесообразна. Обычно автор оскорбляет публику по недомыслию. Что делать: понимать, кто ваш читатель и что он готов вам простить.
✖️ Некрасивый текст. Эту проблему я поставил в конец, потому что сама по себе она наименее серьёзная. Только она обычно сопутствует другим проблемам и свидетельствует о том, что автор недостаточно владеет ремеслом. Что делать: сначала научиться писать, потом научиться писать красиво, потом отучиться писать красиво. Ещё: не относиться наплевательски к тексту вообще и к ошибкам в частности.
🔥41👍28
* * *
У многих писателей, у начинающих, да и у некоторых вполне себе продолжающих в голове живо трепещет вопрос: «Что, чёрт возьми, не так с моим текстом?» Этот вопрос в разных вариациях звучит настолько часто, что мне даже пришлось написать универсальный отказной пост — о том, почему я не читаю рукописи и не делаю отзывов и разборов. Но я надеюсь, то, что я рассказал сегодня, поможет кому-то из вас ответить себе на этот вопрос самостоятельно. Ну или хотя бы приблизиться к ответу.
Да, ещё одно: всё то, что должно работать на читателя, должно работать именно на вашего читателя, а не на какого-то абстрактного или вообще. Так что если вы пока не знаете, кто ваш читатель, вам стоит поскорее узнать о нём как можно больше.
Впрочем, это уже совсем другая история, и расскажу я её как-нибудь в другой раз.
У многих писателей, у начинающих, да и у некоторых вполне себе продолжающих в голове живо трепещет вопрос: «Что, чёрт возьми, не так с моим текстом?» Этот вопрос в разных вариациях звучит настолько часто, что мне даже пришлось написать универсальный отказной пост — о том, почему я не читаю рукописи и не делаю отзывов и разборов. Но я надеюсь, то, что я рассказал сегодня, поможет кому-то из вас ответить себе на этот вопрос самостоятельно. Ну или хотя бы приблизиться к ответу.
Да, ещё одно: всё то, что должно работать на читателя, должно работать именно на вашего читателя, а не на какого-то абстрактного или вообще. Так что если вы пока не знаете, кто ваш читатель, вам стоит поскорее узнать о нём как можно больше.
Впрочем, это уже совсем другая история, и расскажу я её как-нибудь в другой раз.
🔥31👍16
Баланс нового и узнаваемого в литературе
Что такое «новое» применительно к книге? Это то, что удивляет читателя. Сильно или несильно, приятно или неприятно. А «узнаваемое», соответственно, не удивляет. Встречая такое, читатель говорит: «О’кей», — и идёт дальше.
Можно подумать, что узнаваемое — это какой-то картон, песок, рамплиссаж, а новое — самое то, ради чего люди и читают. Можно подумать, что нового должно быть больше. Нет, это не так.
Даже самая новаторская, самая экспериментальная книга, непонятная ни для кого, кроме горстки литературоведов, большей частью состоит из узнаваемого. Я бы сказал, что на девяносто девять процентов, но это слишком нечёткая область, чтобы использовать точные цифры. На девяносто девять условных литературоведческих процентов, вот.
И один процент — это новое. Или полпроцента. Или одна десятая процента. Во многих книгах, кстати, и вовсе ноль — и это не плохо. Просто авторы рекомбинируют по-разному уже знакомые читателям элементы, и читатели им за это благодарны. За возможность вернуться к чему-то любимому, привычному, безопасному. В жёстком жанре детектива, например, сложно придумать что-то по-настоящему оригинальное, все возможности давно исчерпаны. Да и не надо нам оригинального в детективах.
Мы, люди, по своей природе ужасные консерваторы. И чем старше мы становимся, тем больше цепляемся за привычные вещи. За привычные формы, сюжеты, типажи. Имена, идеи, слова, образы, эмоции. Вообще принятие нового — по-настоящему, шокирующе, катарсически нового — непростое испытание; для этого нужно иметь под ногами твёрдую опору из знакомых, надёжных вещей. И незнакомая информация лучше воспринимается, будучи подана в контексте, в котором мы хорошо ориентируемся. Это, кстати, главный принцип научения.
Следующий вопрос: в чём автор может позволить себе экспериментировать? Читатель какие-то вещи просто узнаёт, когда встречает, каким-то радуется как старым друзьям, каких-то ожидает с нетерпением, а от каких-то и вовсе неспособен отказаться — собственно, ради них он и купил книгу. И автор должен ясно понимать, что для его читателя неважно, а что неприкосновенно. Этот момент я проиллюстрирую.
Вот, например, есть жанр традиционного фэнтези с эльфами, гномами и прочими рыцарями. В нём можно свободно менять антураж, географию (и вообще систему мироустройства), вводить неведомые силы, создавать новые народы и живые существа... Читатель поймёт и даже скажет спасибо. А можем ли мы перенести место действия из условного европейского средневековья, скажем, в условную античность или в не менее условную Викторианскую эпоху? Часть читателей начинает морщиться, но вообще такая литература тоже есть. А если в Советский Союз времён Леонида Ильича Брежнева? Эльфы и плановая экономика, каково? Тут мы потеряем не меньше половины аудитории, потому что фэнтези ведь — это что-то вроде сказки, а какая сказка в брежневском СССР? Не сказка, а сплошной соцреализм.
А вот пример совсем непозволительного с точки зрения любителей фэнтезийного жанра: негероический герой в неприключенческом сюжете. Просто крестьянин или просто кабатчик. Просто делает свою работу. Ну или вот хотя бы просто бурлак. Из главы в главу таскает баржу по Великой Реке Ырык-Урук. Скукотища, а не фэнтези. А будь оно написано в другом жанре для другой аудитории — и уже вполне себе в духе Чингиза Айтматова. Я б почитал.
Резюмирую: что делать со всей этой информацией? Первым делом — осознать. Затем приложить к тому жанру, в котором вы пишете, к вашей аудитории. Понять, что стоит за каждым её «прикольненько», «хочу» и «требую». Мысленно обозначить для себя, где есть пространство для творческого эксперимента, для новизны. А дальше — писать. Писать так, чтобы ваши читатели получили и ожидаемое, и что-то сверх того, но ни в коем случае не вместо. 🙂
#аудитория #жанровая_проза
Что такое «новое» применительно к книге? Это то, что удивляет читателя. Сильно или несильно, приятно или неприятно. А «узнаваемое», соответственно, не удивляет. Встречая такое, читатель говорит: «О’кей», — и идёт дальше.
Можно подумать, что узнаваемое — это какой-то картон, песок, рамплиссаж, а новое — самое то, ради чего люди и читают. Можно подумать, что нового должно быть больше. Нет, это не так.
Даже самая новаторская, самая экспериментальная книга, непонятная ни для кого, кроме горстки литературоведов, большей частью состоит из узнаваемого. Я бы сказал, что на девяносто девять процентов, но это слишком нечёткая область, чтобы использовать точные цифры. На девяносто девять условных литературоведческих процентов, вот.
И один процент — это новое. Или полпроцента. Или одна десятая процента. Во многих книгах, кстати, и вовсе ноль — и это не плохо. Просто авторы рекомбинируют по-разному уже знакомые читателям элементы, и читатели им за это благодарны. За возможность вернуться к чему-то любимому, привычному, безопасному. В жёстком жанре детектива, например, сложно придумать что-то по-настоящему оригинальное, все возможности давно исчерпаны. Да и не надо нам оригинального в детективах.
Мы, люди, по своей природе ужасные консерваторы. И чем старше мы становимся, тем больше цепляемся за привычные вещи. За привычные формы, сюжеты, типажи. Имена, идеи, слова, образы, эмоции. Вообще принятие нового — по-настоящему, шокирующе, катарсически нового — непростое испытание; для этого нужно иметь под ногами твёрдую опору из знакомых, надёжных вещей. И незнакомая информация лучше воспринимается, будучи подана в контексте, в котором мы хорошо ориентируемся. Это, кстати, главный принцип научения.
Следующий вопрос: в чём автор может позволить себе экспериментировать? Читатель какие-то вещи просто узнаёт, когда встречает, каким-то радуется как старым друзьям, каких-то ожидает с нетерпением, а от каких-то и вовсе неспособен отказаться — собственно, ради них он и купил книгу. И автор должен ясно понимать, что для его читателя неважно, а что неприкосновенно. Этот момент я проиллюстрирую.
Вот, например, есть жанр традиционного фэнтези с эльфами, гномами и прочими рыцарями. В нём можно свободно менять антураж, географию (и вообще систему мироустройства), вводить неведомые силы, создавать новые народы и живые существа... Читатель поймёт и даже скажет спасибо. А можем ли мы перенести место действия из условного европейского средневековья, скажем, в условную античность или в не менее условную Викторианскую эпоху? Часть читателей начинает морщиться, но вообще такая литература тоже есть. А если в Советский Союз времён Леонида Ильича Брежнева? Эльфы и плановая экономика, каково? Тут мы потеряем не меньше половины аудитории, потому что фэнтези ведь — это что-то вроде сказки, а какая сказка в брежневском СССР? Не сказка, а сплошной соцреализм.
А вот пример совсем непозволительного с точки зрения любителей фэнтезийного жанра: негероический герой в неприключенческом сюжете. Просто крестьянин или просто кабатчик. Просто делает свою работу. Ну или вот хотя бы просто бурлак. Из главы в главу таскает баржу по Великой Реке Ырык-Урук. Скукотища, а не фэнтези. А будь оно написано в другом жанре для другой аудитории — и уже вполне себе в духе Чингиза Айтматова. Я б почитал.
Резюмирую: что делать со всей этой информацией? Первым делом — осознать. Затем приложить к тому жанру, в котором вы пишете, к вашей аудитории. Понять, что стоит за каждым её «прикольненько», «хочу» и «требую». Мысленно обозначить для себя, где есть пространство для творческого эксперимента, для новизны. А дальше — писать. Писать так, чтобы ваши читатели получили и ожидаемое, и что-то сверх того, но ни в коем случае не вместо. 🙂
#аудитория #жанровая_проза
👍42🔥17
Все, наверное, слышали известный вопрос, как правильно: «победю», «побежу» или «побежду»? Подвох тут в том, что среди перечисленных вариантов нет ни одного верного. Ты — победишь, мы — победим, я... извините, не получается почему-то.
Это явление называется неполная парадигма. «Побеждать» — глагол, в парадигме которого отсутствует форма будущего времени в 1-м лице и единственном числе. (Парадигма, если вы не знаете, — это все формы, которые может принимать та или иная часть речи.)
Нельзя сказать, что пример с «победю/побежу/побежду» — какой-то исключительный случай. В русском языке есть много слов, у которых недостаёт самых разных форм. Например, у «ножниц», «сливок» и «дрожжей» нет единственного числа, у «серебра», «листвы» и «ржи» — множественного, а слово «мечта» во множественном числе нельзя поставить в родительный падеж.
Из всех частей речи больше всего грамматических категорий имеет глагол, поэтому неполная парадигма у него встречается чаще всего. Например:
🚫 Нет формы 1-го лица единственного числа («что делаю?») у глаголов «галдеть», «дерзить», «дудеть», «победить», «очутиться», «убедить», «шелестеть».
🚫 Нет формы повелительного наклонения («что делай?») у глаголов «видеть», «ехать», «жаждать», «слышать», «хотеть», а также у безличных глаголов, таких как «вьюжить», «знобить», «нездоровиться», «светать», «смеркаться» и т.п.
🚫 Нельзя образовать деепричастия от глаголов «звать», «казаться», «мочь», «петь», «рвать», «спать», «стонать» и «хотеть» (слово «хотя» — это не деепричастие, а частица или союз).
🚫 Есть только формы прошедшего времени у глаголов «видать» и «слыхать».
🚫 Нет неопределённой формы и формы прошедшего времени у глаголов «неймёт» и «неймётся» (они даже в словаре записаны вот так, а не инфинитивом, как все другие глаголы).
🚫 В случае с глаголом «объять» проще перечислить формы, которые у него есть, чем те, которых нет.
🚫 А у глагола «несдобровать» вообще нет никаких форм, кроме неопределённой («что делать?»).
Некоторые авторы насилуют глаголы, ставя их в невозможные формы: кто-то не знает, что так нельзя, кто-то знает — но само слово «нельзя» ему претит, а кто-то «я художник, я так вижу» — считает невозможные формы свежими творческими находками.
Писать так — всегда ошибка. Можно придумывать новые слова — авторские неологизмы и окказионализмы, — но уже существующие слова нельзя использовать неподобающим образом (будь то в неправильном значении, в неверной синтаксической функции или в несуществующей форме).
Если вам подвернулось такое неудобное слово, замените его на синоним, у которого есть нужная форма, или подберите подходящую параллельную (то есть означающую то же самое) синтаксическую конструкцию. Так, вместо «я победю/побежу/побежду» можно сказать: «я одержу победу», «я возьму верх», «победа будет за мной» и даже «противник будет посрамлён». На то нам и дана стилистика, чтобы мы могли при желании или необходимости выразить одну и ту же мысль по-разному.
Напоследок отвечу на вопрос — наверняка у многих он возник во время чтения: «Как понять, что у слова нет какой-то формы?» Прежде всего вам нужно положиться на чутьё. Начитанный человек чувствует дискомфорт, когда слово звучит странно, потому что не встречал его в книгах. Затем стоит заглянуть в орфографический или толковый словарь, там иногда указываются отсутствующие формы слов. Наконец, если словарь не помог, поищите слово в Национальном корпусе русского языка. Только держите в уме, что классики иногда (иногда!) тоже делали ошибки.
#русский_язык #грамотность
Это явление называется неполная парадигма. «Побеждать» — глагол, в парадигме которого отсутствует форма будущего времени в 1-м лице и единственном числе. (Парадигма, если вы не знаете, — это все формы, которые может принимать та или иная часть речи.)
Нельзя сказать, что пример с «победю/побежу/побежду» — какой-то исключительный случай. В русском языке есть много слов, у которых недостаёт самых разных форм. Например, у «ножниц», «сливок» и «дрожжей» нет единственного числа, у «серебра», «листвы» и «ржи» — множественного, а слово «мечта» во множественном числе нельзя поставить в родительный падеж.
Из всех частей речи больше всего грамматических категорий имеет глагол, поэтому неполная парадигма у него встречается чаще всего. Например:
🚫 Нет формы 1-го лица единственного числа («что делаю?») у глаголов «галдеть», «дерзить», «дудеть», «победить», «очутиться», «убедить», «шелестеть».
🚫 Нет формы повелительного наклонения («что делай?») у глаголов «видеть», «ехать», «жаждать», «слышать», «хотеть», а также у безличных глаголов, таких как «вьюжить», «знобить», «нездоровиться», «светать», «смеркаться» и т.п.
🚫 Нельзя образовать деепричастия от глаголов «звать», «казаться», «мочь», «петь», «рвать», «спать», «стонать» и «хотеть» (слово «хотя» — это не деепричастие, а частица или союз).
🚫 Есть только формы прошедшего времени у глаголов «видать» и «слыхать».
🚫 Нет неопределённой формы и формы прошедшего времени у глаголов «неймёт» и «неймётся» (они даже в словаре записаны вот так, а не инфинитивом, как все другие глаголы).
🚫 В случае с глаголом «объять» проще перечислить формы, которые у него есть, чем те, которых нет.
🚫 А у глагола «несдобровать» вообще нет никаких форм, кроме неопределённой («что делать?»).
Некоторые авторы насилуют глаголы, ставя их в невозможные формы: кто-то не знает, что так нельзя, кто-то знает — но само слово «нельзя» ему претит, а кто-то «я художник, я так вижу» — считает невозможные формы свежими творческими находками.
Писать так — всегда ошибка. Можно придумывать новые слова — авторские неологизмы и окказионализмы, — но уже существующие слова нельзя использовать неподобающим образом (будь то в неправильном значении, в неверной синтаксической функции или в несуществующей форме).
Если вам подвернулось такое неудобное слово, замените его на синоним, у которого есть нужная форма, или подберите подходящую параллельную (то есть означающую то же самое) синтаксическую конструкцию. Так, вместо «я победю/побежу/побежду» можно сказать: «я одержу победу», «я возьму верх», «победа будет за мной» и даже «противник будет посрамлён». На то нам и дана стилистика, чтобы мы могли при желании или необходимости выразить одну и ту же мысль по-разному.
Напоследок отвечу на вопрос — наверняка у многих он возник во время чтения: «Как понять, что у слова нет какой-то формы?» Прежде всего вам нужно положиться на чутьё. Начитанный человек чувствует дискомфорт, когда слово звучит странно, потому что не встречал его в книгах. Затем стоит заглянуть в орфографический или толковый словарь, там иногда указываются отсутствующие формы слов. Наконец, если словарь не помог, поищите слово в Национальном корпусе русского языка. Только держите в уме, что классики иногда (иногда!) тоже делали ошибки.
#русский_язык #грамотность
🔥38👍35🤔1
Очередной вопрос от подписчика: достаточно ли одного человека, который помогает автору вычитывать текст, или лучше, когда их несколько?
Всё зависит от того, что это за люди и в чём они помогают.
Если речь идёт о литературном редакторе, то он обычно один. Я за всю свою рабочую практику ни разу не видел, чтобы книгу отдавали двум редакторам, — за исключением случаев, когда первый редактор не справился и второй устраняет за ним огрехи (или, что проще, редактирует полностью заново).
Корректоров в нормальных издательствах ставят двух на книгу, а в особо серьёзных случаях их может быть три и даже больше (я слышал, в СССР энциклопедии вычитывали по пять корректоров, один за другим). Главное качество корректора — кроме знания правил — это внимательность; но никакой человек не может быть внимателен на сто процентов, поэтому второй корректор страхует первого, а кроме того, он читает уже свёрстанный макет и отслеживает ошибки вёрстки и оформления.
Корректоры, а тем более литературный редактор — это довольно дорогостоящие специалисты, и обычно я тут советую переложить расходы на издательство. На самом деле даже если вы заплатили за редакторскую и корректорскую вычитку вашей рукописи, а потом отослали её в издательство и получили положительный ответ, ваш текст всё равно отправят на редактуру и корректуру — просто потому, что так принято. Если же вы публикуетесь на самиздате, то вам не обязательно ориентироваться на издательские стандарты работы — вы можете обойтись помощью одного корректора, попросив его вдобавок выделять в тексте стилистические ошибки и сомнительные места (кто-то попросит за это немного доплатить, кто-то и так всегда отмечает такие вещи).
А вот бета-ридеров должно быть несколько, благо они обычно готовы помогать бесплатно. Почему несколько? Потому что это, по сути, просто читатели с довольно разным опытом и литературными предпочтениями. Обратная связь, которую они дают, большей частью субъективна. Не стоит полагаться на отзывы одного человека или двух, пусть их будет хотя бы пятеро — так вы получите более объёмный и разносторонний взгляд на ваш текст.
Где искать бета-ридеров? Если у вас есть сложившаяся аудитория, даже небольшая, вы можете предложить нескольким людям читать ваши тексты раньше остальных взамен на обратную связь. Вы также можете объединиться с несколькими авторами плюс-минус вашего уровня, чтобы помогать друг другу с вычиткой. Наконец, во многих писательских сообществах есть темы для поиска бета-ридеров — напишите туда, и если сообщество активное, наверняка на ваше предложение кто-нибудь откликнется.
#редактура #корректура
Всё зависит от того, что это за люди и в чём они помогают.
Если речь идёт о литературном редакторе, то он обычно один. Я за всю свою рабочую практику ни разу не видел, чтобы книгу отдавали двум редакторам, — за исключением случаев, когда первый редактор не справился и второй устраняет за ним огрехи (или, что проще, редактирует полностью заново).
Корректоров в нормальных издательствах ставят двух на книгу, а в особо серьёзных случаях их может быть три и даже больше (я слышал, в СССР энциклопедии вычитывали по пять корректоров, один за другим). Главное качество корректора — кроме знания правил — это внимательность; но никакой человек не может быть внимателен на сто процентов, поэтому второй корректор страхует первого, а кроме того, он читает уже свёрстанный макет и отслеживает ошибки вёрстки и оформления.
Корректоры, а тем более литературный редактор — это довольно дорогостоящие специалисты, и обычно я тут советую переложить расходы на издательство. На самом деле даже если вы заплатили за редакторскую и корректорскую вычитку вашей рукописи, а потом отослали её в издательство и получили положительный ответ, ваш текст всё равно отправят на редактуру и корректуру — просто потому, что так принято. Если же вы публикуетесь на самиздате, то вам не обязательно ориентироваться на издательские стандарты работы — вы можете обойтись помощью одного корректора, попросив его вдобавок выделять в тексте стилистические ошибки и сомнительные места (кто-то попросит за это немного доплатить, кто-то и так всегда отмечает такие вещи).
А вот бета-ридеров должно быть несколько, благо они обычно готовы помогать бесплатно. Почему несколько? Потому что это, по сути, просто читатели с довольно разным опытом и литературными предпочтениями. Обратная связь, которую они дают, большей частью субъективна. Не стоит полагаться на отзывы одного человека или двух, пусть их будет хотя бы пятеро — так вы получите более объёмный и разносторонний взгляд на ваш текст.
Где искать бета-ридеров? Если у вас есть сложившаяся аудитория, даже небольшая, вы можете предложить нескольким людям читать ваши тексты раньше остальных взамен на обратную связь. Вы также можете объединиться с несколькими авторами плюс-минус вашего уровня, чтобы помогать друг другу с вычиткой. Наконец, во многих писательских сообществах есть темы для поиска бета-ридеров — напишите туда, и если сообщество активное, наверняка на ваше предложение кто-нибудь откликнется.
#редактура #корректура
👍45
Сегодня с 19:00 до 22:00 по московскому времени в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» мы с Ольгой Нестеровой (ведущим редактором издательства «МИФ», редакция «Культура») проведём блиц-консультацию — будем отвечать на вопросы подписчиков в реальном времени. Обычно на такой консультации мы успеваем разобрать несколько десятков вопросов.
Если вы пользуетесь ВК — приходите, будет интересно.
👉 https://vk.com/perepishite
Постскриптум. Отличие блиц-консультации от вебинара в том, что вопросы мы принимаем в текстовом формате — в виде комментариев под специальным постом — и отвечаем тоже в комментариях. Идеально для тех, кто не любит видео и прямые эфиры. 😉
Если вы пользуетесь ВК — приходите, будет интересно.
👉 https://vk.com/perepishite
Постскриптум. Отличие блиц-консультации от вебинара в том, что вопросы мы принимаем в текстовом формате — в виде комментариев под специальным постом — и отвечаем тоже в комментариях. Идеально для тех, кто не любит видео и прямые эфиры. 😉
👍22
Стиль текста — это не просто «красиво». Это не просто «я так привык». И тем более не просто «захотелось — написал». Стиль — это форма, которую мы придаём тексту. И она не случайна. В хорошем тексте не только содержание работает на творческую задачу. Форма — тоже.
Сегодня мы поговорим об одном элементе стиля, о котором авторы задумываются далеко не так часто, как о тропах, эпитетах или образных словах. Длина предложений — вот о чём мы будем говорить, и вы наверняка пересмотрите своё отношение к такому, казалось бы, незначительному аспекту текста. Некоторые авторы склонны писать длинными периодами, другие, наоборот, — короткими рублеными фразами, не задумываясь, что сама эта манера влияет на восприятие их текстов читателями.
Что такое предложение? Это смысловая единица. Законченная, целая. Его читают на одном дыхании. Его стараются удержать в голове. Никто не делает остановки в середине. Точка — вот место, где можно передохнуть. Поэтому короткие предложения читаются быстро. И текст из таких предложений — летит, мчится. Это очень хорошо для динамичных сцен. Для погонь, для драк. Но не для объяснения чего-то сложного.
Когда я называю текст законченной смысловой единицей, я имею в виду не только скорость, с которой читатель сможет прочесть его — какое-то предложение быстрее, какое-то дольше, — я имею в виду ещё и его информационную ёмкость: есть такие темы, которые невозможно раскрыть с помощью дюжины слов, но при этом и дробить их на части (на отдельные небольшие предложения) тоже нежелательно, поскольку в этом случае нарушается связность информации. Длинные предложения хорошо подходят для объяснения сложных материй — и для создания размеренного, тягучего, обстоятельного повествования (наверняка вы и без моей подсказки вспомните тысячу и один случай, когда бывает нужно максимально успокоить, замедлить читателя).
Кто-то, наверное, сейчас подумал: ага, короткие предложения — для быстрого текста, длинные — для медленного, а для обычного текста, значит, лучше всего подходят средние, слов этак из десяти-двенадцати? Как бы не так! Кроме длины предложений есть ещё один аспект: ритм. Да, он может быть быстрым, медленным или умеренным (как в музыке) — но ещё он может быть ровным или рваным. Если все предложения примерно одинаковой длины, значит, ритм ровный. Если они разные — рваный. Как, например, в этом абзаце. Кстати, обратите внимание на то, что каждый абзац в этом посте я для демонстрации написал в своём ритме.
Ровный ритм усыпляет читателя (конечно, не в прямом смысле — если только книга не скучная). Человек привыкает к одинаковым смысловым единицам, и его внимание притупляется. Поэтому рваный ритм, как это ни парадоксально, для читателя комфортнее всего. Постоянно меняющаяся длина предложений держит мозг в тонусе, не даёт настроиться на что-то постоянное. Именно таким ритмом лучше всего писать текст, когда нет задачи сделать его нарочито быстрым или медленным.
Вот так-то. Теперь вы это знаете. Пользуйтесь.
Напоследок отвечу на вопрос: а как быть, если я привык писать преимущественно длинными (или, наоборот, короткими) предложениями? Нужно ли мне переучиваться? Нет. Пишите так, как привыкли писать — но только черновик. А потом на стадии правки вы можете задать себе вопрос: в каких фрагментах текста ритм не соответствует содержанию или задаче? — и там, где это нужно, разбить предложения на более короткие или, наоборот, объединить в более ёмкие и медленные синтаксические конструкции.
Постскриптум. В качестве упражнения предлагаю вам ответить на вопрос: какой ритм (быстрый, умеренный или медленный, рваный или ровный) я использовал в каждом абзаце этого поста?
#стилистика
Сегодня мы поговорим об одном элементе стиля, о котором авторы задумываются далеко не так часто, как о тропах, эпитетах или образных словах. Длина предложений — вот о чём мы будем говорить, и вы наверняка пересмотрите своё отношение к такому, казалось бы, незначительному аспекту текста. Некоторые авторы склонны писать длинными периодами, другие, наоборот, — короткими рублеными фразами, не задумываясь, что сама эта манера влияет на восприятие их текстов читателями.
Что такое предложение? Это смысловая единица. Законченная, целая. Его читают на одном дыхании. Его стараются удержать в голове. Никто не делает остановки в середине. Точка — вот место, где можно передохнуть. Поэтому короткие предложения читаются быстро. И текст из таких предложений — летит, мчится. Это очень хорошо для динамичных сцен. Для погонь, для драк. Но не для объяснения чего-то сложного.
Когда я называю текст законченной смысловой единицей, я имею в виду не только скорость, с которой читатель сможет прочесть его — какое-то предложение быстрее, какое-то дольше, — я имею в виду ещё и его информационную ёмкость: есть такие темы, которые невозможно раскрыть с помощью дюжины слов, но при этом и дробить их на части (на отдельные небольшие предложения) тоже нежелательно, поскольку в этом случае нарушается связность информации. Длинные предложения хорошо подходят для объяснения сложных материй — и для создания размеренного, тягучего, обстоятельного повествования (наверняка вы и без моей подсказки вспомните тысячу и один случай, когда бывает нужно максимально успокоить, замедлить читателя).
Кто-то, наверное, сейчас подумал: ага, короткие предложения — для быстрого текста, длинные — для медленного, а для обычного текста, значит, лучше всего подходят средние, слов этак из десяти-двенадцати? Как бы не так! Кроме длины предложений есть ещё один аспект: ритм. Да, он может быть быстрым, медленным или умеренным (как в музыке) — но ещё он может быть ровным или рваным. Если все предложения примерно одинаковой длины, значит, ритм ровный. Если они разные — рваный. Как, например, в этом абзаце. Кстати, обратите внимание на то, что каждый абзац в этом посте я для демонстрации написал в своём ритме.
Ровный ритм усыпляет читателя (конечно, не в прямом смысле — если только книга не скучная). Человек привыкает к одинаковым смысловым единицам, и его внимание притупляется. Поэтому рваный ритм, как это ни парадоксально, для читателя комфортнее всего. Постоянно меняющаяся длина предложений держит мозг в тонусе, не даёт настроиться на что-то постоянное. Именно таким ритмом лучше всего писать текст, когда нет задачи сделать его нарочито быстрым или медленным.
Вот так-то. Теперь вы это знаете. Пользуйтесь.
Напоследок отвечу на вопрос: а как быть, если я привык писать преимущественно длинными (или, наоборот, короткими) предложениями? Нужно ли мне переучиваться? Нет. Пишите так, как привыкли писать — но только черновик. А потом на стадии правки вы можете задать себе вопрос: в каких фрагментах текста ритм не соответствует содержанию или задаче? — и там, где это нужно, разбить предложения на более короткие или, наоборот, объединить в более ёмкие и медленные синтаксические конструкции.
Постскриптум. В качестве упражнения предлагаю вам ответить на вопрос: какой ритм (быстрый, умеренный или медленный, рваный или ровный) я использовал в каждом абзаце этого поста?
#стилистика
🔥37👍30
Когда-то я написал в этом канале довольно много постов о самой распространённой (без преувеличения!) стилистической ошибке — лексическом повторе. Теперь вся эта информация будет в одной большой статье.
#стилистика #стилистические_ошибки
#стилистика #стилистические_ошибки
Telegraph
Много слов про повторы слов
Лексический повтор — это распространённая стилистическая ошибка, о которой не знают многие авторы. Те же, кто знает, иногда называют её просто «повтором» или «тавтологией» (хотя тавтология на самом деле — кое-что другое). Лексический повтор — это использование…
🔥34👍16
В дополнение к недавнему посту о проблемах текста я решил написать ещё о тех вещах, которые могут их усугублять или, наоборот, делать менее серьёзными.
Напомню, любая ошибка в тексте плоха не потому, что она ошибка, а потому, что становится причиной какой-то проблемы, например:
– затрудняет понимание (канцелярит, синтаксические ошибки и др.);
– создаёт путаницу (неверное употребление местоимений, причастных и деепричастных оборотов, полисемия, те же синтаксические ошибки и др.);
– вводит в заблуждение (фактические и смысловые ошибки, неверное словоупотребление и др.);
– создаёт ненужный эффект — чаще всего комический (неверное словоупотребление, использование слов без учёта коннотаций, ошибки с местоимениями и др.);
– отталкивает аудиторию (ошибки из категории «красных тряпок»);
– уродует текст (любые заметные или многочисленные ошибки).
Нет ничего страшного в том, что вы пропустили одну или две ошибки, которые не создают никаких серьёзных проблем. Это я вам говорю как редактор, повидавший самые разные тексты. Не слишком заметная ошибка — преступление только с точки зрения граммар-наци, но большинство ваших читателей всё-таки адекватные люди. Они вас простят, особенно если текст сам по себе будет хороший.
Однако есть несколько факторов, которые могут сделать серьёзной даже безобидную ошибку.
1. Заметность. Одна и та же ошибка будет по-разному восприниматься в глубине текста, в первом абзаце и в титуле книги.
2. Известность. Чем больше людей знают о существовании ошибки, тем вернее они её заметят.
3. Количество. Некоторые ошибки, нестрашные сами по себе, берут количеством — например, лексические повторы или канцелярит.
4. Раздражающая способность. Это как раз про «красные тряпки» — «тся/ться», «надеть/одеть», «чеховскую шляпу» и прочие топонимы на «-о».
Когда вы редактируете текст, особенно в условиях ограниченного времени, держите в уме то, о чём я сказал. Что-то можно и пропустить (особенно если это какая-то трудноустранимая экзотика, о которой знают полтора филолога), но есть такие ошибки, которые надо исправить во что бы то ни стало.
#редактура #корректура
Напомню, любая ошибка в тексте плоха не потому, что она ошибка, а потому, что становится причиной какой-то проблемы, например:
– затрудняет понимание (канцелярит, синтаксические ошибки и др.);
– создаёт путаницу (неверное употребление местоимений, причастных и деепричастных оборотов, полисемия, те же синтаксические ошибки и др.);
– вводит в заблуждение (фактические и смысловые ошибки, неверное словоупотребление и др.);
– создаёт ненужный эффект — чаще всего комический (неверное словоупотребление, использование слов без учёта коннотаций, ошибки с местоимениями и др.);
– отталкивает аудиторию (ошибки из категории «красных тряпок»);
– уродует текст (любые заметные или многочисленные ошибки).
Нет ничего страшного в том, что вы пропустили одну или две ошибки, которые не создают никаких серьёзных проблем. Это я вам говорю как редактор, повидавший самые разные тексты. Не слишком заметная ошибка — преступление только с точки зрения граммар-наци, но большинство ваших читателей всё-таки адекватные люди. Они вас простят, особенно если текст сам по себе будет хороший.
Однако есть несколько факторов, которые могут сделать серьёзной даже безобидную ошибку.
1. Заметность. Одна и та же ошибка будет по-разному восприниматься в глубине текста, в первом абзаце и в титуле книги.
2. Известность. Чем больше людей знают о существовании ошибки, тем вернее они её заметят.
3. Количество. Некоторые ошибки, нестрашные сами по себе, берут количеством — например, лексические повторы или канцелярит.
4. Раздражающая способность. Это как раз про «красные тряпки» — «тся/ться», «надеть/одеть», «чеховскую шляпу» и прочие топонимы на «-о».
Когда вы редактируете текст, особенно в условиях ограниченного времени, держите в уме то, о чём я сказал. Что-то можно и пропустить (особенно если это какая-то трудноустранимая экзотика, о которой знают полтора филолога), но есть такие ошибки, которые надо исправить во что бы то ни стало.
#редактура #корректура
👍55🔥5🤔1
Давно обращаю внимание на то, что в спорах об ошибках люди, утверждающие: «Здесь есть ошибка!» — ведут себя более уверенно и нетерпимо (и, вероятно, чувствуют за собой бо́льшую правоту), чем те, кто говорит, что ошибки нет.
👍16🔥4
Несмотря на то что довольно много авторов уверены, будто бы личные местоимения «он», «она», «оно» и «они» непременно должны указывать на последнее существительное или субстантиват, совпадающие с ними по роду и числу, — на самом деле правило сформулировано не так строго.
Достаточно, чтобы читателю было понятно, к какому существительному относится местоимение, и чтобы при этом не возникало двусмысленности (как, например, во фразе: «Вася встретил Лёшу, и он рассказал ему несмешной анекдот»).
Если не верите мне, то вот вам выдержка из Дитмара Эльяшевича (Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Айрис-пресс, 2006).
#редактура
Достаточно, чтобы читателю было понятно, к какому существительному относится местоимение, и чтобы при этом не возникало двусмысленности (как, например, во фразе: «Вася встретил Лёшу, и он рассказал ему несмешной анекдот»).
Если не верите мне, то вот вам выдержка из Дитмара Эльяшевича (Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Айрис-пресс, 2006).
#редактура
👍48🔥3
Для работы редактору достаточно помнить где-то 30% самых частых правил. Но ещё нужно ясно понимать, где проверить остальные 70%, и иметь хорошо развитое чутьё на лажу, потому что незамеченная ошибка — это неисправленная ошибка, даже если вы знаете правило на пять с плюсом.
Многим не хватает не грамотности, а как раз чутья на лажу. Это главный навык редактора.
#редактура
Многим не хватает не грамотности, а как раз чутья на лажу. Это главный навык редактора.
#редактура
👍59🔥15
Законы жанров вытканы звёздами на ночном небе. Это законы гармонии, имманентно присущие природе, они сродни великолепию золотого сечения и округлости круга. Они аксиоматичны, их не нужно доказывать и нельзя опровергнуть. Законы жанров были всегда и пребудут вовек.
Гм... На самом деле нет. 🙂
Вы ждали от меня лонгрида про жанры? Вот вам лонгрид про жанры.
#худлит #жанровая_проза
Гм... На самом деле нет. 🙂
Вы ждали от меня лонгрида про жанры? Вот вам лонгрид про жанры.
#худлит #жанровая_проза
Telegraph
В жанре
Вы задумывались, почему романы пишутся так, а не иначе? Почему они должны обладать некой драматургической структурой? Почему нельзя обрывать сюжетные линии на случайном месте? И кто вообще сказал, что в романе должны быть чётко выраженные сюжетные линии?…
🔥43👍15
Часто вижу в Сети критику, дескать, российские издательства совсем обленились, выпускают ужасно отредактированные книги. Действительно, качество современной литературы ан-масс оставляет желать лучшего. Но такое чрезмерное обобщение — что книги плохи только потому, что издательствам наплевать на качественную редактуру, — создаёт искажённую картину. Получается что-то вроде теории заговора издательств против читающей и пишущей общественности.
На самом деле, конечно, никакого заговора нет. Напротив, многие из тех, кто трудится в книжной отрасли, — настоящие подвижники, работающие не столько за деньги (поверьте, платят там так себе), сколько за идею. Это люди, которые по-настоящему любят книги. Но книги всё равно не всегда получаются хорошими. Если вам интересно, давайте я расскажу о некоторых причинах, почему это может происходить.
1️⃣ Книгоиздание в России, к сожалению, — это неприбыльная и практически не поддерживаемая государством отрасль. Денег там довольно мало. Вследствие этого многие крупные издательства берут не качеством, а количеством — то есть работают по принципу «напечатаем побольше наименований и подешевле, что-нибудь да продастся». Бюджеты на подготовку книг делаются минимальными, и денег на хорошего редактора (а иногда вообще хоть на какого-нибудь редактора) не хватает. Результат вам известен.
2️⃣ От момента подписания договора с автором до печати тиража в среднем проходит полгода. Это очень мало, но иногда срок бывает ещё меньше, например когда нужно выпустить книгу к определённой дате или событию: к Рождеству, к началу учебного года, к выходу знакового фильма или сериала и т.д. Ответред прописывает график для всех внештатников: переводчика, редактора, первого и второго корректора, верстальщика, дизайнера, художника и т.д. Если кто-то из них не успевает закончить работу до своего дедлайна (а это бывает часто, особенно когда сроки сжаты), времени у следующих за ними специалистов остаётся меньше. В итоге редактору могут дать на вычитку книги неделю (вместо предполагавшихся двух-трёх), а корректору — день или два. Безусловно, это сказывается на результате.
3️⃣ К сожалению, не все редакторы одинаково полезны. В нашей профессии довольно многие (наверное, я не ошибусь, если скажу: «подавляющее большинство») не знают и не умеют всего, что должен знать и уметь литературный редактор. Они пропускают массу ошибок, сажают новые ошибки, переписывают авторский текст на свой вкус. И если ответред обнаружил, что литературный редактор безнадёжно испортил книгу, самое большее, что он может сделать, — это самостоятельно устранить отдельные вопиющие проблемы. Ни денег, ни времени на то, чтобы отдать текст другому редактору, у него обычно нет.
Продолжение см. в следующем посте.
На самом деле, конечно, никакого заговора нет. Напротив, многие из тех, кто трудится в книжной отрасли, — настоящие подвижники, работающие не столько за деньги (поверьте, платят там так себе), сколько за идею. Это люди, которые по-настоящему любят книги. Но книги всё равно не всегда получаются хорошими. Если вам интересно, давайте я расскажу о некоторых причинах, почему это может происходить.
1️⃣ Книгоиздание в России, к сожалению, — это неприбыльная и практически не поддерживаемая государством отрасль. Денег там довольно мало. Вследствие этого многие крупные издательства берут не качеством, а количеством — то есть работают по принципу «напечатаем побольше наименований и подешевле, что-нибудь да продастся». Бюджеты на подготовку книг делаются минимальными, и денег на хорошего редактора (а иногда вообще хоть на какого-нибудь редактора) не хватает. Результат вам известен.
2️⃣ От момента подписания договора с автором до печати тиража в среднем проходит полгода. Это очень мало, но иногда срок бывает ещё меньше, например когда нужно выпустить книгу к определённой дате или событию: к Рождеству, к началу учебного года, к выходу знакового фильма или сериала и т.д. Ответред прописывает график для всех внештатников: переводчика, редактора, первого и второго корректора, верстальщика, дизайнера, художника и т.д. Если кто-то из них не успевает закончить работу до своего дедлайна (а это бывает часто, особенно когда сроки сжаты), времени у следующих за ними специалистов остаётся меньше. В итоге редактору могут дать на вычитку книги неделю (вместо предполагавшихся двух-трёх), а корректору — день или два. Безусловно, это сказывается на результате.
3️⃣ К сожалению, не все редакторы одинаково полезны. В нашей профессии довольно многие (наверное, я не ошибусь, если скажу: «подавляющее большинство») не знают и не умеют всего, что должен знать и уметь литературный редактор. Они пропускают массу ошибок, сажают новые ошибки, переписывают авторский текст на свой вкус. И если ответред обнаружил, что литературный редактор безнадёжно испортил книгу, самое большее, что он может сделать, — это самостоятельно устранить отдельные вопиющие проблемы. Ни денег, ни времени на то, чтобы отдать текст другому редактору, у него обычно нет.
Продолжение см. в следующем посте.
👍23🔥3
Начало см. в предыдущем посте.
4️⃣ Поскольку средств у издательств мало, ответственных редакторов (издательских проджект-менеджеров) загружают работой по полной программе. Особенно эта тенденция обострилась в последние годы. Ответред может вести одновременно полсотни (!) книг, находящихся на разных стадиях готовности. При такой нагрузке, конечно, у него зачастую нет времени нормально принять работу у внештатника: книга пришла от редактора — ответред посмотрел её одним глазом, вроде всё о’кей — и отправил на корректуру и дальше на вёрстку. А там на самом деле всё совсем не о’кей.
5️⃣ Бывает, книга настолько плохо написана или переведена, что даже самый лучший редактор не сделает её хорошей. Он устранит максимум ошибок, но текст всё равно в основе своей останется скверным. Кто-то сказал недавно в комментариях: «Если книга хорошая — значит, автор молодец, если плохая — редактора расстрелять!» К сожалению, действительно, многие читатели думают, будто все проблемы текста — в зоне ответственности редактора. Но на самом деле нет.
6️⃣ Некоторые книги публикуются в авторской редакции — то есть литературный редактор вообще не смотрит текст. Иногда это бывает из-за нехватки бюджета или времени, но чаще — по желанию или настоятельному требованию автора (особенно любят требовать такое высокотиражные «писатели-бренды»). В результате читатель получает бонусом к интересной книге весь набор стилистических, фактических, смысловых, а иногда и орфографических и пунктуационных ошибок, которые соизволил сделать писатель. И редактор совсем тут ни при чём.
7️⃣ Наконец, некоторые читатели — особенно склонные к хайпу книжные блогеры и критики — порой ведут себя как белки-истерички: обнаружив в тексте несколько неточностей или ошибок (которые иногда вовсе не ошибки), они пишут эмоциональный разгромный отзыв. И если он широко расходится по Сети, то за книгой закрепляется репутация плохой, неудачно отредактированной. Хотя на самом деле в любом большом тексте ВСЕГДА можно найти сколько-нибудь ошибок. Даже в советских энциклопедиях, которые вычитывали по пять корректоров, в конце вклеивалась бумажка со списком опечаток, обнаруженных уже после типографии.
Не бывает совершенных людей, и не бывает совершенных текстов (потому что их пишут люди). Если на всю книгу встретилось несколько ошибок — это нормально; плохо, когда ошибок много или когда они серьёзные.
#издательства #редактура
4️⃣ Поскольку средств у издательств мало, ответственных редакторов (издательских проджект-менеджеров) загружают работой по полной программе. Особенно эта тенденция обострилась в последние годы. Ответред может вести одновременно полсотни (!) книг, находящихся на разных стадиях готовности. При такой нагрузке, конечно, у него зачастую нет времени нормально принять работу у внештатника: книга пришла от редактора — ответред посмотрел её одним глазом, вроде всё о’кей — и отправил на корректуру и дальше на вёрстку. А там на самом деле всё совсем не о’кей.
5️⃣ Бывает, книга настолько плохо написана или переведена, что даже самый лучший редактор не сделает её хорошей. Он устранит максимум ошибок, но текст всё равно в основе своей останется скверным. Кто-то сказал недавно в комментариях: «Если книга хорошая — значит, автор молодец, если плохая — редактора расстрелять!» К сожалению, действительно, многие читатели думают, будто все проблемы текста — в зоне ответственности редактора. Но на самом деле нет.
6️⃣ Некоторые книги публикуются в авторской редакции — то есть литературный редактор вообще не смотрит текст. Иногда это бывает из-за нехватки бюджета или времени, но чаще — по желанию или настоятельному требованию автора (особенно любят требовать такое высокотиражные «писатели-бренды»). В результате читатель получает бонусом к интересной книге весь набор стилистических, фактических, смысловых, а иногда и орфографических и пунктуационных ошибок, которые соизволил сделать писатель. И редактор совсем тут ни при чём.
7️⃣ Наконец, некоторые читатели — особенно склонные к хайпу книжные блогеры и критики — порой ведут себя как белки-истерички: обнаружив в тексте несколько неточностей или ошибок (которые иногда вовсе не ошибки), они пишут эмоциональный разгромный отзыв. И если он широко расходится по Сети, то за книгой закрепляется репутация плохой, неудачно отредактированной. Хотя на самом деле в любом большом тексте ВСЕГДА можно найти сколько-нибудь ошибок. Даже в советских энциклопедиях, которые вычитывали по пять корректоров, в конце вклеивалась бумажка со списком опечаток, обнаруженных уже после типографии.
Не бывает совершенных людей, и не бывает совершенных текстов (потому что их пишут люди). Если на всю книгу встретилось несколько ошибок — это нормально; плохо, когда ошибок много или когда они серьёзные.
#издательства #редактура
👍58🤔3
Я предлагаю вам выполнить упражнение: найти в небольшом тексте ошибки и назвать их в комментариях. Напомню, что ошибки — это объективные недостатки текста, а не «ну я бы так сам не написал» или «как-то не очень, но я не понимаю почему». 🙂
Итак, текст:
Пенсионер Антон Алексеевич решил пойти в кинотеатр, где с прошлой недели шёл голливудский фильм про шпионов. Он подравнял свою бороду, начистил ботинки, одел лучший галстук и спустился на улицу. Было светло и солнечно, и, глядя на гуляющих людей, ему тоже захотелось пройтись и подышать свежим воздухом, вместо того чтобы трястись в душном троллейбусе (к тому же приедущем неизвестно когда). На скамейке у подъезда он увидел двоих соседок, отъявных сплетниц, — и, не желая услышать о себе что-нибудь нелицеприятное, кивнул им головой и устремился прочь быстрым шагом. Антон Александрович не любил пустых разговоров ни о чём.
* * *
Свой разбор этого текста я сделаю послезавтра вечером.
#упражнения
Итак, текст:
Пенсионер Антон Алексеевич решил пойти в кинотеатр, где с прошлой недели шёл голливудский фильм про шпионов. Он подравнял свою бороду, начистил ботинки, одел лучший галстук и спустился на улицу. Было светло и солнечно, и, глядя на гуляющих людей, ему тоже захотелось пройтись и подышать свежим воздухом, вместо того чтобы трястись в душном троллейбусе (к тому же приедущем неизвестно когда). На скамейке у подъезда он увидел двоих соседок, отъявных сплетниц, — и, не желая услышать о себе что-нибудь нелицеприятное, кивнул им головой и устремился прочь быстрым шагом. Антон Александрович не любил пустых разговоров ни о чём.
* * *
Свой разбор этого текста я сделаю послезавтра вечером.
#упражнения
🔥26👍10
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С КОРРЕКТОРОМ
Для начала: кто такой корректор? Это человек, который проверяет текст на предмет грамматических, орфографических, пунктуационных, речевых и оформительских ошибок. Также он может обратить внимание на стилистические, фактические и смысловые ошибки, на проблемы с изложением материала, со структурой и др., но вообще это уже зона ответственности другого специалиста — литературного редактора, такие штуки требуют более глубокого вмешательства в текст. Проще говоря, корректор поправит все ваши опечатки, неверно написанные слова, недостающие и лишние запятые, небрежности в вёрстке и оформлении.
Где найти корректора
Найти правильного корректора можно несколькими способами. Во-первых, ищите его в профильных сообществах, таких как:
– https://vk.com/club7089021
– https://korrektor-ru.livejournal.com (это одно из старейших известных мне сообществ, оно до сих пор активно на платформе ЖЖ).
Во-вторых, есть специализированные редакторские/корректорские бюро. Тут я никого специально рекламировать не буду, потому что это значило бы, что я за кого-то готов поручиться, — а я не готов. Сами нагуглите по запросу «корректорское бюро» или «корректорское агентство». И имейте в виду, что работа корректора из фирмы обойдётся вам дороже.
Также корректоров можно искать на крупных фрилансерских биржах вроде https://www.fl.ru — но внимательно и осторожно (об этом я ещё скажу ниже).
Как понять, что перед вами профессионал
Определяющие качества корректора — грамотность, близкая к абсолютной, знание ГОСТов и нечеловеческое внимание. Это всё нарабатывается многолетним ежедневным опытом работы на строгих заказчиков. Самые строгие заказчики — издательства и редакции газет и журналов. Соответственно, первый способ выявить хорошего корректора — спросить его, с какими издательствами/СМИ и как много он работал. Если тот говорит, что в издательствах платят мало и он берёт только частные заказы, не следует с ходу записывать его в шарлатаны, хотя вероятность этого возрастает.
Кстати, ещё одно достоинство корректора из издательства: так как там действительно платят мало, но зато дают огромные объёмы текста (и ставят строгие условия), такой человек не будет чрезмерно завышать цену, к тому же, вероятно, он умеет работать качественно и быстро: в издательской практике считается вполне нормальным давать на вычитку книги день-два.
После того как корректор сделает вам первый заказ, задайте ему вопросы по поводу нескольких правок, неочевидных для вас. Корректор должен ориентироваться в правилах и ГОСТах, как юрист ориентируется в законах. Профессионал даст вам конкретные ссылки на нормативные словари и справочники. Любитель начнёт плавать: «Ну, я не знаю... Мне кажется, просто будет лучше... Так никто не пишет...» — и т.д.
На фрилансерских биржах люди нередко указывают в профиле несколько профессий. Это естественно. Но на это стоит обратить внимание. Корректор может быть по совместительству литературным редактором, на худой конец — типографским верстальщиком. Если в списке профессий написано: «переводчик», «копирайтер», «распознавание и набор текста» и т. п. — значит, скорее всего, перед вами не корректор, а копирайтер или переводчик, который решил расширить фронт работ за счёт дополнительной услуги. Я напомню: чтобы работать корректором, недостаточно быть просто грамотным человеком, так же, как для того, чтобы работать юристом, недостаточно более-менее ориентироваться в законах.
Не нужно требовать от корректора высшего образования, тем более филологического, даже если вам нужен самый-пресамый специалист. То, что филолог или учитель русского языка обязательно будет хорошим корректором или редактором, — заблуждение. Корректоров готовят в полиграфических техникумах, к тому же я знавал немало хороших корректоров-самоучек. Тут важнее опыт, это одна из тех профессий, где возраст — преимущество. Корректоры со стажем 30–40 лет, как правило, очень хороши — это ещё советская школа.
Продолжение см. в следующем посте.
Для начала: кто такой корректор? Это человек, который проверяет текст на предмет грамматических, орфографических, пунктуационных, речевых и оформительских ошибок. Также он может обратить внимание на стилистические, фактические и смысловые ошибки, на проблемы с изложением материала, со структурой и др., но вообще это уже зона ответственности другого специалиста — литературного редактора, такие штуки требуют более глубокого вмешательства в текст. Проще говоря, корректор поправит все ваши опечатки, неверно написанные слова, недостающие и лишние запятые, небрежности в вёрстке и оформлении.
Где найти корректора
Найти правильного корректора можно несколькими способами. Во-первых, ищите его в профильных сообществах, таких как:
– https://vk.com/club7089021
– https://korrektor-ru.livejournal.com (это одно из старейших известных мне сообществ, оно до сих пор активно на платформе ЖЖ).
Во-вторых, есть специализированные редакторские/корректорские бюро. Тут я никого специально рекламировать не буду, потому что это значило бы, что я за кого-то готов поручиться, — а я не готов. Сами нагуглите по запросу «корректорское бюро» или «корректорское агентство». И имейте в виду, что работа корректора из фирмы обойдётся вам дороже.
Также корректоров можно искать на крупных фрилансерских биржах вроде https://www.fl.ru — но внимательно и осторожно (об этом я ещё скажу ниже).
Как понять, что перед вами профессионал
Определяющие качества корректора — грамотность, близкая к абсолютной, знание ГОСТов и нечеловеческое внимание. Это всё нарабатывается многолетним ежедневным опытом работы на строгих заказчиков. Самые строгие заказчики — издательства и редакции газет и журналов. Соответственно, первый способ выявить хорошего корректора — спросить его, с какими издательствами/СМИ и как много он работал. Если тот говорит, что в издательствах платят мало и он берёт только частные заказы, не следует с ходу записывать его в шарлатаны, хотя вероятность этого возрастает.
Кстати, ещё одно достоинство корректора из издательства: так как там действительно платят мало, но зато дают огромные объёмы текста (и ставят строгие условия), такой человек не будет чрезмерно завышать цену, к тому же, вероятно, он умеет работать качественно и быстро: в издательской практике считается вполне нормальным давать на вычитку книги день-два.
После того как корректор сделает вам первый заказ, задайте ему вопросы по поводу нескольких правок, неочевидных для вас. Корректор должен ориентироваться в правилах и ГОСТах, как юрист ориентируется в законах. Профессионал даст вам конкретные ссылки на нормативные словари и справочники. Любитель начнёт плавать: «Ну, я не знаю... Мне кажется, просто будет лучше... Так никто не пишет...» — и т.д.
На фрилансерских биржах люди нередко указывают в профиле несколько профессий. Это естественно. Но на это стоит обратить внимание. Корректор может быть по совместительству литературным редактором, на худой конец — типографским верстальщиком. Если в списке профессий написано: «переводчик», «копирайтер», «распознавание и набор текста» и т. п. — значит, скорее всего, перед вами не корректор, а копирайтер или переводчик, который решил расширить фронт работ за счёт дополнительной услуги. Я напомню: чтобы работать корректором, недостаточно быть просто грамотным человеком, так же, как для того, чтобы работать юристом, недостаточно более-менее ориентироваться в законах.
Не нужно требовать от корректора высшего образования, тем более филологического, даже если вам нужен самый-пресамый специалист. То, что филолог или учитель русского языка обязательно будет хорошим корректором или редактором, — заблуждение. Корректоров готовят в полиграфических техникумах, к тому же я знавал немало хороших корректоров-самоучек. Тут важнее опыт, это одна из тех профессий, где возраст — преимущество. Корректоры со стажем 30–40 лет, как правило, очень хороши — это ещё советская школа.
Продолжение см. в следующем посте.
👍37
Начало см. в предыдущем посте.
Как c ним работать и сколько платить
Тут ситуация такая же, как везде во фрилансе: разброс цен очень широкий, и сам факт, что вы отдали уйму денег, вовсе не гарантирует, что работу вам сделают качественно. Ещё надо понимать, что с частными, разовыми, разрозненными и малообъёмными заказами корректору работать не так интересно, как с целой книгой, так что цена в этом случае может оказаться выше. Разумные рамки стоимости: от 50 до 200 рублей за тысячу знаков, но можно найти профессионального корректора и дешевле или сговориться на более низкую цену за большие объёмы текста. Чтобы вы знали, нормальная издательская ставка — 10–25 рублей за тысячу знаков, а где-то платят и того меньше. Но это издательства, у них совершенно другие объёмы заказов.
Текст на корректуру лучше отправлять в формате .doc, .docx или .rtf. За работу с PDF-документами, графическими файлами или напрямую с сайтом с вас возьмут больше. Если речь идёт о маленьких объёмах текста (например, о постах в блог), лучше отсылать их пачками по нескольку штук. В случае с большими объёмами (хотя бы от 100 000 знаков) можно договариваться о скидке.
Обязательно требуйте, чтобы корректор выполнял работу в режиме рецензирования, — тогда вы сможете увидеть все сделанные им изменения.
А вот чего НЕ следует требовать от корректора: не просите, чтобы он переписал или дописал текст, проверил факты, что-то сверстал (если только он по совместительству не верстальщик), сверил перевод с оригиналом, отредактировал гугл-перевод, подобрал картинки и т.д. Он этого не умеет и не должен уметь.
Какие следует устанавливать сроки сдачи: если текст небольшой — тогда завтра-послезавтра, максимум через пару дней, если это книга — тогда можно дать неделю. Корректор, который говорит, что ему нужно гораздо больше времени, — или лентяй, или непрофессионал, или человек, чрезмерно загруженный работой.
Собственно, вот. Если вы профессиональный корректор — можете рассказать о себе в комментариях к посту.
Ну и в любом случае будет здорово, если вы распространите этот текст как можно шире. Профессиональные корректоры — это люди, которые делают мир лучше. Пусть им будет проще находить заказчиков.
#корректура
Как c ним работать и сколько платить
Тут ситуация такая же, как везде во фрилансе: разброс цен очень широкий, и сам факт, что вы отдали уйму денег, вовсе не гарантирует, что работу вам сделают качественно. Ещё надо понимать, что с частными, разовыми, разрозненными и малообъёмными заказами корректору работать не так интересно, как с целой книгой, так что цена в этом случае может оказаться выше. Разумные рамки стоимости: от 50 до 200 рублей за тысячу знаков, но можно найти профессионального корректора и дешевле или сговориться на более низкую цену за большие объёмы текста. Чтобы вы знали, нормальная издательская ставка — 10–25 рублей за тысячу знаков, а где-то платят и того меньше. Но это издательства, у них совершенно другие объёмы заказов.
Текст на корректуру лучше отправлять в формате .doc, .docx или .rtf. За работу с PDF-документами, графическими файлами или напрямую с сайтом с вас возьмут больше. Если речь идёт о маленьких объёмах текста (например, о постах в блог), лучше отсылать их пачками по нескольку штук. В случае с большими объёмами (хотя бы от 100 000 знаков) можно договариваться о скидке.
Обязательно требуйте, чтобы корректор выполнял работу в режиме рецензирования, — тогда вы сможете увидеть все сделанные им изменения.
А вот чего НЕ следует требовать от корректора: не просите, чтобы он переписал или дописал текст, проверил факты, что-то сверстал (если только он по совместительству не верстальщик), сверил перевод с оригиналом, отредактировал гугл-перевод, подобрал картинки и т.д. Он этого не умеет и не должен уметь.
Какие следует устанавливать сроки сдачи: если текст небольшой — тогда завтра-послезавтра, максимум через пару дней, если это книга — тогда можно дать неделю. Корректор, который говорит, что ему нужно гораздо больше времени, — или лентяй, или непрофессионал, или человек, чрезмерно загруженный работой.
Собственно, вот. Если вы профессиональный корректор — можете рассказать о себе в комментариях к посту.
Ну и в любом случае будет здорово, если вы распространите этот текст как можно шире. Профессиональные корректоры — это люди, которые делают мир лучше. Пусть им будет проще находить заказчиков.
#корректура
👍42🔥16😁1
Давайте теперь я разберу позавчерашнее упражнение.
Первое предложение, про кинотеатр: кто-то решил, что «пойти» и «шёл» — это лексический повтор, но на самом деле использование по соседству форм одного слова с разными корнями (супплетивов) не считается ошибкой. Задумайтесь на минуточку: в этих словах нет ни одной общей буквы! А вот «шёл» и «прошлой» — это уже точно однокоренные слова, стоящие очень близко друг к другу.
Второе предложение, где герой собирается: тут уже есть несколько ошибок. Неверное словоупотребление — «подрАвнял» (нужно было написать «подрОвнял», то есть сделал ровной, а не равной) и «одел» (нужно было «надел»). Ещё одна ошибка — это избыточность «свою бороду»; из контекста очевидно, что герой стриг бороду не кому-то, а себе.
Третье предложение, в котором солнечно: собственно, «светло и солнечно» — тоже избыточность, второе слово включает в себя значение первого, которое поэтому не нужно. «Глядя... ему захотелось» — ошибка с деепричастием: тут у нас безличное предложение без инфинитива, значит, деепричастие к нему относиться не может. «Приедущем» — это не существующая в русском языке форма причастия будущего времени.
Четвёртое предложение, где появляются соседки: прежде всего, сколько соседок увидел герой? — «двух», а не «двоих», потому что собирательные числительные не используются для обозначения женщин. Дальше, нет такого слова «отъявных», есть слово «отъявленных», можете проверить в орфографическом словаре. Вместо «нелицеприятный» нужно было написать «неприятный», это распространённая ошибка с паронимами (слово «нелицеприятный», чтоб вы знали, означает «беспристрастный, справедливый, честный»). Ну и, наконец, здесь есть две избыточные конструкции: «кивнул головой» (кивают обычно именно ею, это не надо уточнять) и «устремился быстрым шагом» (глагол «устремился» уже предполагает некоторую быстроту).
Пятое предложение, самое короткое, всё же содержит две ошибки: во-первых, это ещё одна избыточность — «пустых разговоров ни о чём», а во-вторых... напомните-ка мне, как звали героя в начале текста? 🙂
Отдельно скажу про личные местоимения: иногда они создают двусмысленность, но здесь с ними всё в порядке — везде из контекста ясно, что имеется в виду герой, а не троллейбус или галстук. И да, местоимения могут использоваться в тексте с большей частотой, поскольку их назначение — подменять собой другие знаменательные слова при повторной номинации.
Ещё кое-кто написал, что нужно поставить запятую не перед «вместо», а перед «чтобы». Нет, не нужно. О составных союзах и их расчленении у меня был отдельный пост в ВК (я пока не перенёс его в «Телеграм») — почитайте.
Большинство других замечаний, которые я увидел в комментариях, можно отнести к категориям «я это исправлю, потому что мне это не нравится» или «я это исправлю, потому что сам бы так никогда не написал» — то есть это вкусовая правка. А задание было — найти объективные недостатки текста. 🤓
* * *
Если устранить ошибки, которые я перечислил, то получится примерно вот что:
Пенсионер Антон Алексеевич решил пойти в кинотеатр, где с прошлой недели показывали голливудский фильм про шпионов. Он подровнял бороду, начистил ботинки, надел лучший галстук и спустился на улицу. Было солнечно, и, глядя на гуляющих людей, он тоже захотел пройтись и подышать свежим воздухом, вместо того чтобы трястись в душном троллейбусе (который к тому же приедет неизвестно когда). На скамейке у подъезда он увидел двух соседок, отъявленных сплетниц, — и, не желая услышать о себе что-нибудь неприятное, кивнул им и устремился прочь. Антон Алексеевич не любил разговоров ни о чём.
#упражнения
Первое предложение, про кинотеатр: кто-то решил, что «пойти» и «шёл» — это лексический повтор, но на самом деле использование по соседству форм одного слова с разными корнями (супплетивов) не считается ошибкой. Задумайтесь на минуточку: в этих словах нет ни одной общей буквы! А вот «шёл» и «прошлой» — это уже точно однокоренные слова, стоящие очень близко друг к другу.
Второе предложение, где герой собирается: тут уже есть несколько ошибок. Неверное словоупотребление — «подрАвнял» (нужно было написать «подрОвнял», то есть сделал ровной, а не равной) и «одел» (нужно было «надел»). Ещё одна ошибка — это избыточность «свою бороду»; из контекста очевидно, что герой стриг бороду не кому-то, а себе.
Третье предложение, в котором солнечно: собственно, «светло и солнечно» — тоже избыточность, второе слово включает в себя значение первого, которое поэтому не нужно. «Глядя... ему захотелось» — ошибка с деепричастием: тут у нас безличное предложение без инфинитива, значит, деепричастие к нему относиться не может. «Приедущем» — это не существующая в русском языке форма причастия будущего времени.
Четвёртое предложение, где появляются соседки: прежде всего, сколько соседок увидел герой? — «двух», а не «двоих», потому что собирательные числительные не используются для обозначения женщин. Дальше, нет такого слова «отъявных», есть слово «отъявленных», можете проверить в орфографическом словаре. Вместо «нелицеприятный» нужно было написать «неприятный», это распространённая ошибка с паронимами (слово «нелицеприятный», чтоб вы знали, означает «беспристрастный, справедливый, честный»). Ну и, наконец, здесь есть две избыточные конструкции: «кивнул головой» (кивают обычно именно ею, это не надо уточнять) и «устремился быстрым шагом» (глагол «устремился» уже предполагает некоторую быстроту).
Пятое предложение, самое короткое, всё же содержит две ошибки: во-первых, это ещё одна избыточность — «пустых разговоров ни о чём», а во-вторых... напомните-ка мне, как звали героя в начале текста? 🙂
Отдельно скажу про личные местоимения: иногда они создают двусмысленность, но здесь с ними всё в порядке — везде из контекста ясно, что имеется в виду герой, а не троллейбус или галстук. И да, местоимения могут использоваться в тексте с большей частотой, поскольку их назначение — подменять собой другие знаменательные слова при повторной номинации.
Ещё кое-кто написал, что нужно поставить запятую не перед «вместо», а перед «чтобы». Нет, не нужно. О составных союзах и их расчленении у меня был отдельный пост в ВК (я пока не перенёс его в «Телеграм») — почитайте.
Большинство других замечаний, которые я увидел в комментариях, можно отнести к категориям «я это исправлю, потому что мне это не нравится» или «я это исправлю, потому что сам бы так никогда не написал» — то есть это вкусовая правка. А задание было — найти объективные недостатки текста. 🤓
* * *
Если устранить ошибки, которые я перечислил, то получится примерно вот что:
Пенсионер Антон Алексеевич решил пойти в кинотеатр, где с прошлой недели показывали голливудский фильм про шпионов. Он подровнял бороду, начистил ботинки, надел лучший галстук и спустился на улицу. Было солнечно, и, глядя на гуляющих людей, он тоже захотел пройтись и подышать свежим воздухом, вместо того чтобы трястись в душном троллейбусе (который к тому же приедет неизвестно когда). На скамейке у подъезда он увидел двух соседок, отъявленных сплетниц, — и, не желая услышать о себе что-нибудь неприятное, кивнул им и устремился прочь. Антон Алексеевич не любил разговоров ни о чём.
#упражнения
👍77🔥5