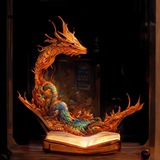Тут в комментах спросили, за что же это студент у Фаулза топчет ногами Толкиена.
Это он для нас Толкиен, хочется сказать, а для студента — препод, одержимый своим предметом и оттого заедающий юному организму жизнь. Студент ведь не обязан понимать, что профессор прошёл окопы на Сомме, что его чуть не сожрали заживо вши, из-за чего он заболел траншейной лихорадкой, был комиссован и мыкался по гарнизонам, и что единственным, за что можно было как-то ухватиться всем собой, оказались языки, на которых никто не говорит, и литература на этих языках. И он ухватился, как хватаются за провербиальную соломинку, собрал вокруг них распавшийся мир, как мог, и живёт теперь там, потому что больше-то негде; нет, не эскапизм — копинговые, прастихоспади, стратегии, дело рук самих утопающих.
Студенту до этого дела нет, ему жить свою жизнь, а этому довольно сильно мешает учебный план. Тем более, когда в преподах такой одержимец — мотивы одержимости студент, повторю, понимать не обязан, да и не пытается. Какие даны, какие гёты, кому это надо в наше непростое время посреди живого трепета чего угодно!.. Нет, пятерым на курсе надо, одержимость бывает заразительна, но эти пятеро и карикатур не рисуют.
Это для нас он Толкиен, а для тех студентов Средиземья ещё нет. Да и было бы, экзамен всё равно сдавать по проклятому "Беовульфу".
Это он для нас Толкиен, хочется сказать, а для студента — препод, одержимый своим предметом и оттого заедающий юному организму жизнь. Студент ведь не обязан понимать, что профессор прошёл окопы на Сомме, что его чуть не сожрали заживо вши, из-за чего он заболел траншейной лихорадкой, был комиссован и мыкался по гарнизонам, и что единственным, за что можно было как-то ухватиться всем собой, оказались языки, на которых никто не говорит, и литература на этих языках. И он ухватился, как хватаются за провербиальную соломинку, собрал вокруг них распавшийся мир, как мог, и живёт теперь там, потому что больше-то негде; нет, не эскапизм — копинговые, прастихоспади, стратегии, дело рук самих утопающих.
Студенту до этого дела нет, ему жить свою жизнь, а этому довольно сильно мешает учебный план. Тем более, когда в преподах такой одержимец — мотивы одержимости студент, повторю, понимать не обязан, да и не пытается. Какие даны, какие гёты, кому это надо в наше непростое время посреди живого трепета чего угодно!.. Нет, пятерым на курсе надо, одержимость бывает заразительна, но эти пятеро и карикатур не рисуют.
Это для нас он Толкиен, а для тех студентов Средиземья ещё нет. Да и было бы, экзамен всё равно сдавать по проклятому "Беовульфу".
🔥125👍62❤39😁10😢2👎1
Наглядный пример того, за что студенты могли ненавидеть профессора Толкиена.
"Беовульф" начинается с пролога, в котором говорится о том, что мы — условно-эпические "мы", рассказчик и слушатели вместе — слышали о храбрых деяниях данов-копьеносцев в прежние дни; почему вдруг в английском эпосе героями оказываются даны и гёты, вопрос отдельный, на который у меня во вторую сессию не всякий романо-германец мог сразу ответить. На староанглийском — без диакритики, с вашего позволения — так:
hwæt we gardena in gear-dagum
þeodcyninga þrym gefrunon
hu ða æþelingas ellen fremedon
Я нарочно убрала все прописные буквы и знаки препинания, которыми оснащают текст в современных изданиях, потому что их нет в оригинале, не может быть. Давать буквальный перевод довольно бессмысленно, в староанглийской поэзии, как и в скандинавской, звучание едва ли не так же важно, как смысл слов — аллитеративность, особый ритм, иной раз все слова в строке на одну букву и т.д. Но, если просто по словам, то получится что-то вроде, опять без прописных и пунктуации, "что мы о копье-данов в старые дни о конунгах дружин мощи слышали как властители храбрые дела вершили". Да, вот так.
И начальное "что", hwæt — отдельная головная боль, потому что может означать не только "вот что мы слышали о том-то и том-то", но и "внимайте, мы слышали" "эй, мы слышали"... штош. Якоб Гримм (брат, они не сказочники, они филологи и специалисты по истории языка) в своё время сказал, что это "просто восклицание", чем изрядно спортил мозги последующим поколениям.
Как его только не переводили!
И тебе lo, и hark, и hear, разумеется, и у Хини замечательное so, "вот, значить". В нашем переводе у Тихомирова там сразу попытка взять быка за аллитеративные рога: "Истинно, исстари..." — прям василиск в канализации из "Гарри Поттера".
Научная полемика продолжается. И не восклицание вовсе, пишут некоторые товарищи учёные, а просто глагол, и hwæt we gar-dena in geardagum надо понимать как "слышали мы, дескать, о силе данов-копьеносцев"... слышали, слышали.
Но вот пару лет назад вышел новый перевод, Марии Даваны Хедли, и там заход с козырей: Bro! Tell me we still know how to talk about kings! Перевод этот вообще освежает, там, где в переводе Хини Беовульф "равнодушен был к смерти", тут он gave zero shits. Дети мои оценили бы, слов нет.
Чо, братан, мы о данах-копьеносцах в прежние дни, о власти конунгов дружины-то слышали — а ты всё это выучишь и будешь сдавать профессору, у которого при слове hwæt глаза зажигаются безумным фосфорическим огнём.
Про мотив проклятого золота и дракона, который его стережёт, можно уже не начинать, сквозь грамматику бы прорваться.
"Беовульф" начинается с пролога, в котором говорится о том, что мы — условно-эпические "мы", рассказчик и слушатели вместе — слышали о храбрых деяниях данов-копьеносцев в прежние дни; почему вдруг в английском эпосе героями оказываются даны и гёты, вопрос отдельный, на который у меня во вторую сессию не всякий романо-германец мог сразу ответить. На староанглийском — без диакритики, с вашего позволения — так:
hwæt we gardena in gear-dagum
þeodcyninga þrym gefrunon
hu ða æþelingas ellen fremedon
Я нарочно убрала все прописные буквы и знаки препинания, которыми оснащают текст в современных изданиях, потому что их нет в оригинале, не может быть. Давать буквальный перевод довольно бессмысленно, в староанглийской поэзии, как и в скандинавской, звучание едва ли не так же важно, как смысл слов — аллитеративность, особый ритм, иной раз все слова в строке на одну букву и т.д. Но, если просто по словам, то получится что-то вроде, опять без прописных и пунктуации, "что мы о копье-данов в старые дни о конунгах дружин мощи слышали как властители храбрые дела вершили". Да, вот так.
И начальное "что", hwæt — отдельная головная боль, потому что может означать не только "вот что мы слышали о том-то и том-то", но и "внимайте, мы слышали" "эй, мы слышали"... штош. Якоб Гримм (брат, они не сказочники, они филологи и специалисты по истории языка) в своё время сказал, что это "просто восклицание", чем изрядно спортил мозги последующим поколениям.
Как его только не переводили!
И тебе lo, и hark, и hear, разумеется, и у Хини замечательное so, "вот, значить". В нашем переводе у Тихомирова там сразу попытка взять быка за аллитеративные рога: "Истинно, исстари..." — прям василиск в канализации из "Гарри Поттера".
Научная полемика продолжается. И не восклицание вовсе, пишут некоторые товарищи учёные, а просто глагол, и hwæt we gar-dena in geardagum надо понимать как "слышали мы, дескать, о силе данов-копьеносцев"... слышали, слышали.
Но вот пару лет назад вышел новый перевод, Марии Даваны Хедли, и там заход с козырей: Bro! Tell me we still know how to talk about kings! Перевод этот вообще освежает, там, где в переводе Хини Беовульф "равнодушен был к смерти", тут он gave zero shits. Дети мои оценили бы, слов нет.
Чо, братан, мы о данах-копьеносцах в прежние дни, о власти конунгов дружины-то слышали — а ты всё это выучишь и будешь сдавать профессору, у которого при слове hwæt глаза зажигаются безумным фосфорическим огнём.
Про мотив проклятого золота и дракона, который его стережёт, можно уже не начинать, сквозь грамматику бы прорваться.
❤163👍47🔥40😁35
Возлюбленный Рийксмюсеум в одной там запрещённой сеточке валяет дурака. Мартен Солманс, дескать, записку оставил: ушёл на распродажу, щасвирнус.
Возлюбленный Рийксмюсеум порицают в комментах: лучше бы написали, что он ушёл бороться за [правильное]; а мы надеялись, что в музее нам не будут напоминать о бездумном потреблении; можно хотя бы музеи, церкви и библиотеки не превращать в вертепы торгашества; далее везде.
Нет, две трети комментаторов просто благодарно ржут и шутят в ответ, что позволяет не отчаяться по поводу нашего биологического вида.
Возлюбленный Рийксмюсеум порицают в комментах: лучше бы написали, что он ушёл бороться за [правильное]; а мы надеялись, что в музее нам не будут напоминать о бездумном потреблении; можно хотя бы музеи, церкви и библиотеки не превращать в вертепы торгашества; далее везде.
Нет, две трети комментаторов просто благодарно ржут и шутят в ответ, что позволяет не отчаяться по поводу нашего биологического вида.
❤141👍42😁21🔥3
Завела себе запасник своего рода, буду складывать туда то, что единственно способно спасти смертельно раненного — в нашем случае ящеря. Там не будет текстов, — во всяком случае, моих — не будет комментариев, будут большей частью картинки без всякой единой тематики, возможно, музыка иногда.
Если вам близко моё понимание прекрасного, приглашаю.
Если вам близко моё понимание прекрасного, приглашаю.
Telegram
глоток бензина
субъективно красивое
❤64👍20💯1
Читаю про историю лондонского Музея естественной истории, когда он ещё был частью Британского музея, до прихода сэра Ричарда Оуэна.
"Большая часть коллекции Слоана [имеется в виду сэр Ханс Слоан, коллекция которого, завещанная нации, стала поводом для основания Британского музея; в Британской библиотеке до сих пор книги из его собрания хранятся под шифром Sloan] была утрачена к первым десятилетиям XIX века. Доктор Джордж Шоу (хранитель Отдела естественной истории в 1806-1813 гг.) продал множество образцов Королевскому хирургическому колледжу а также периодически устраивал сожжения материалов на территории музея. Его преемники в свою очередь тоже обращались к попечителям за разрешением уничтожить пришедшие в негодность экспонаты. К 1833 году, как сообщает Ежегодный отчёт, из 5 000 насекомых, числившихся в каталоге коллекции Слоана, не осталось ни одного. Неспособность отдела естественной истории сберечь единицы хранения стала притчей во языцех: Казначейство отказывалось доверять ему образцы, собранные за государственный счёт. В служебные назначения вносило хаос джентельменское кумовство; в 1862 году ассистентом-энотомологом назначили племянника любовницы одного из попечителей, несмотря на то, что он не мог отличить бабочку от мотылька.
Д. Э. Грей (хранитель отдела зоологии в 1840-1874 гг.) сетовал на распространённость среди сотрудников психических заболеваний: Джордж Шоу угрожал растоптать любую ракушку, не упомянутую в двенадцатом издании Systema Naturae Линнея; другой сотрудник содрал все этикетки и регистрационные номера с энтомологических витрин, поскольку они были наклеены его конкурентом. Музей приобрёл огромную коллекцию конхолога Хью Каминга, и собственная жена Грея носила открытые планшеты через двор на сильном ветру — все этикетки сдуло. По некоторым сведениям, восстановить коллекцию так и не удалось".
Читать с выражением, вежливым британским голосом с университетским выговором.
"Большая часть коллекции Слоана [имеется в виду сэр Ханс Слоан, коллекция которого, завещанная нации, стала поводом для основания Британского музея; в Британской библиотеке до сих пор книги из его собрания хранятся под шифром Sloan] была утрачена к первым десятилетиям XIX века. Доктор Джордж Шоу (хранитель Отдела естественной истории в 1806-1813 гг.) продал множество образцов Королевскому хирургическому колледжу а также периодически устраивал сожжения материалов на территории музея. Его преемники в свою очередь тоже обращались к попечителям за разрешением уничтожить пришедшие в негодность экспонаты. К 1833 году, как сообщает Ежегодный отчёт, из 5 000 насекомых, числившихся в каталоге коллекции Слоана, не осталось ни одного. Неспособность отдела естественной истории сберечь единицы хранения стала притчей во языцех: Казначейство отказывалось доверять ему образцы, собранные за государственный счёт. В служебные назначения вносило хаос джентельменское кумовство; в 1862 году ассистентом-энотомологом назначили племянника любовницы одного из попечителей, несмотря на то, что он не мог отличить бабочку от мотылька.
Д. Э. Грей (хранитель отдела зоологии в 1840-1874 гг.) сетовал на распространённость среди сотрудников психических заболеваний: Джордж Шоу угрожал растоптать любую ракушку, не упомянутую в двенадцатом издании Systema Naturae Линнея; другой сотрудник содрал все этикетки и регистрационные номера с энтомологических витрин, поскольку они были наклеены его конкурентом. Музей приобрёл огромную коллекцию конхолога Хью Каминга, и собственная жена Грея носила открытые планшеты через двор на сильном ветру — все этикетки сдуло. По некоторым сведениям, восстановить коллекцию так и не удалось".
Читать с выражением, вежливым британским голосом с университетским выговором.
😱91🔥37👍20❤16🤯6😁3
Когда я была совсем ещё желторотым литературоведиком, учителя мои, вечное им спасибо, говорили: сначала — материал, потом — концепция; не ломай материал, чтобы упихать в концепцию. О том, чтобы отбирать из материала только то, что подтверждает твою готовую концепцию, фильтровать его сквозь заведомое представление, речь не шла вовсе, мы не в ритуальных целях собирались.
Методологическая рефлексия — один из самых годных инструментов на свете. И, в отличие от разводного ключа, её можно держать при себе, не занимая руки.
Методологическая рефлексия — один из самых годных инструментов на свете. И, в отличие от разводного ключа, её можно держать при себе, не занимая руки.
👍126❤54👏6
В английском для "лабиринта" есть два слова: собственно, labyrinth и maze. Первое, ясное дело, заимствовано из греческого через латынь, о его этимологии спорят, соглашаются лишь в том, что восходит оно к догреческим пластам; возможно, связано с лидийским labrys, двойная секира, возможно, с laura "узкий проход, улица". Второе — maze, тот же корень, что в amaze, "поражать, ошеломлять", от реконструированной древнеанглийской основы *mæs, значение которой также туманно; предположительно, она родственна древненорвежскому mas, "изнурительный труд".
Раз слова разные, должна быть и разница. И она есть, объясняют словари: лабиринт выстраивается от центра, он представляет собой единственный путь со многими поворотами и изгибами, вход в него один, он же выход (правда, если принять это толкование, непонятно, зачем Тесею нить Ариадны: иди себе да иди, дорога одна); а maze, который на русский переводится тоже "лабиринтом" есть структура ризоматическая, он идёт от контура, путей в нём множество, можно выбирать, но можно и в тупик зайти. Отсюда эмблематика лабиринта, аллегорически изображающего путь души к Богу; классический напольный лабиринт средневековья строится от креста, образующего центр, см. схему. Maze, напротив, служит аллегорией заблуждения, потери пути и обмана; и все вспомнили садовые лабиринты, первейший же из которых — лабиринт Хэмптон-Корта имени Джерома нашего Джерома.
Звучит складно, вот только те же словари толкуют labyrinth как "maze structure"; шакалы такие, в виде змеи. Более того, нынешний узус противоположен традиционному: если что-то именуется labyrinth, то коннотация чаще всего отрицательна: "бюрократический лабиринт", к примеру.
И мы остаёмся посреди творения инженерного гения Дедала с оборванной ниточкой в руках, можно наматывать на палец.
Выйдет М, как всегда.
Раз слова разные, должна быть и разница. И она есть, объясняют словари: лабиринт выстраивается от центра, он представляет собой единственный путь со многими поворотами и изгибами, вход в него один, он же выход (правда, если принять это толкование, непонятно, зачем Тесею нить Ариадны: иди себе да иди, дорога одна); а maze, который на русский переводится тоже "лабиринтом" есть структура ризоматическая, он идёт от контура, путей в нём множество, можно выбирать, но можно и в тупик зайти. Отсюда эмблематика лабиринта, аллегорически изображающего путь души к Богу; классический напольный лабиринт средневековья строится от креста, образующего центр, см. схему. Maze, напротив, служит аллегорией заблуждения, потери пути и обмана; и все вспомнили садовые лабиринты, первейший же из которых — лабиринт Хэмптон-Корта имени Джерома нашего Джерома.
Звучит складно, вот только те же словари толкуют labyrinth как "maze structure"; шакалы такие, в виде змеи. Более того, нынешний узус противоположен традиционному: если что-то именуется labyrinth, то коннотация чаще всего отрицательна: "бюрократический лабиринт", к примеру.
И мы остаёмся посреди творения инженерного гения Дедала с оборванной ниточкой в руках, можно наматывать на палец.
Выйдет М, как всегда.
👍149❤54
В развесёлых комментариях по поводу оперных валькирий (см. выше) меня настигло литературоведческое озарение. О том, что "Золотой ключик" есть безжалостная карикатура — из зала слышны выкрики: "Мениппея!" — на весь серебряный век и Блока лично, не писал только ленивый. А вот писал ли кто про гофмановский совершенно мотив слома судьбы героя с выпадением из зачарованного безопасного мира из-за посаженной героем кляксы?
Студиозус Ансельм портит рукопись моего дядюшки архивариуса и попадает в банку, Буратино марает тетрадку и отсылается в тёмный чулан — это не может быть совпадением, никак.
Студиозус Ансельм портит рукопись моего дядюшки архивариуса и попадает в банку, Буратино марает тетрадку и отсылается в тёмный чулан — это не может быть совпадением, никак.
👍86❤38🤔15
О терминологии.
Давным-давно, когда словари были только бумажные, а словарей специальной лексики почти не существовало вовсе, моя юная мама начала работать с университетскими геологами. Переводить приходилось по методу "тут написано примерно вот это, а теперь скажите, как это будет по-геологически", так и училась. Однажды, работая над статьёй из англоязычного журнала, которую запросили палеоихтиологи, мама обнаружила, что у ископаемой рыбы имеется snout, и пошла к профессору-палеонтологу.
— Понимаете, snout — это вытянутая часть морды, как у собаки, — сказала мама. — Но "морда" это как-то нехорошо в научном тексте, у вас, наверное, это называется как-то иначе?
— Да, — согласился профессор, — "морда" нехорошо. По-научному это называется "рыло".
Давным-давно, когда словари были только бумажные, а словарей специальной лексики почти не существовало вовсе, моя юная мама начала работать с университетскими геологами. Переводить приходилось по методу "тут написано примерно вот это, а теперь скажите, как это будет по-геологически", так и училась. Однажды, работая над статьёй из англоязычного журнала, которую запросили палеоихтиологи, мама обнаружила, что у ископаемой рыбы имеется snout, и пошла к профессору-палеонтологу.
— Понимаете, snout — это вытянутая часть морды, как у собаки, — сказала мама. — Но "морда" это как-то нехорошо в научном тексте, у вас, наверное, это называется как-то иначе?
— Да, — согласился профессор, — "морда" нехорошо. По-научному это называется "рыло".
❤218😁152👍47🔥4
Русскому неопределённо-личному "говорят (шумят, звонят и т.д.)" в английском соответствует they say, что порождает один из самых невыносимых переводизмов — лишнее "они". "Они сказали по телевизору", "они звонили из школы", "они провели конкурс" и т.д. Хуже разве что вечный "госпиталь", куда отвозят беременных со схватками и штатских дедушек с высоким давлением, и столь же вечный "отель", даже если речь о постоялом дворе при ярмарке или пьесе Гольдони.
Как говаривала моя преподавательница в университете, переводить надо не только с английского, но и на русский.
Как говаривала моя преподавательница в университете, переводить надо не только с английского, но и на русский.
❤186👍88💯30
Леди Энн Друри, в девичестве Бэкон, была племянницей сэра Фрэнсиса и покровительницей Джона Донна. Когда в 1610 году умерла в пятнадцать лет её единственная дочь Элизабет, Донн написал в память о девушке поразительную "Анатомию мира", а два года спустя "Вторую годовщину", которую конспирологи норовят отнять у юной покойницы и передать более, на их взгляд, достойным персонажам; сейчас не о том.
Брат леди Энн Натаниэль был художником, сама леди Энн тоже писала — любительски, в качестве живописи всё это великой ценности не имеет, но смысл там не в художественных достоинствах. Для своего кабинета (мы бы такое помещение назвали скорее "чуланом", площадь его чуть больше двух квадратных метров) леди Друри расписала шестьдесят одну панель эмблематическими изображениями с латинскими и итальянскими девизами. Взяты эмблемы большей частью из популярных тогда сборников, исходники находятся и у Джеффри Уитни, и у Клода Парадена, но кое-что художница, видимо, придумывала сама. Леди Энн, набожная пуританка, наверное воспринимала создание этих панелей и пребывание среди них как род религиозной медитации, они побуждали к размышлению о "фрагментированном мире", о котором писал Донн в поминальной элегии.
Был ли особый смысл в первоначальном расположении панелей, какая-то сквозная тема, сейчас не скажешь. Их сняли со стен в родном Хостеде ещё в XVII столетии, какое-то время они висели в коридоре Хардвик-Хауса в Саффолке, потом коллекции отвели отдельную комнатку, на фотографии как раз она. Но вряд ли история была единой, весь смысл её как раз в дробности, в мозаике, из которой складывается мир и его восприятие.
Человек переходит ручей под девизом "Будь осторожен, когда идёшь вброд"; два цветка, подсписанные — исследователи расходятся в толковании — то ли "Или колется, или дурно пахнет", то ли "Или бери, или оставь как есть"; русалка, как положено, глядится в зеркало, подпись гласит то ли: "По лицу видна моя надежда", то ли "Надеюсь на внешность"; птица Рух тащит в когтях слона под девизом "Нет времени на пустяки" и т.д. Нынешнему человеку не всё понятно, но изображения, безусловно, исполнены значения.
Удивительно, насколько на панели леди Друри похожи изразцы печек из моих любимых залов декоративно-прикладного искусства Русского музея — исполнены изразцы, конечно, более мастеровито, всё-таки профессиональная работа, но на них тоже эмблемы с текстом. Лев со скипетром, "Знаю правительство"; птица, клюющая лист, "Тем питаюся"; дивный толстый зелёный заяц, возведший очи горе, и дева, указующая пальцем себе в грудь, я это, дескать, "Приучаю его к себе"; и прочие.
Если вдуматься, наши мемасики с подписями растут от того же корня, от потребности в эмблематическом сочетании картинки и текста, рождающем нечто, превосходящее простое сложение отдельных значений. Разве что делать их проще, чем расписные настенные панели или печные изразцы.
Брат леди Энн Натаниэль был художником, сама леди Энн тоже писала — любительски, в качестве живописи всё это великой ценности не имеет, но смысл там не в художественных достоинствах. Для своего кабинета (мы бы такое помещение назвали скорее "чуланом", площадь его чуть больше двух квадратных метров) леди Друри расписала шестьдесят одну панель эмблематическими изображениями с латинскими и итальянскими девизами. Взяты эмблемы большей частью из популярных тогда сборников, исходники находятся и у Джеффри Уитни, и у Клода Парадена, но кое-что художница, видимо, придумывала сама. Леди Энн, набожная пуританка, наверное воспринимала создание этих панелей и пребывание среди них как род религиозной медитации, они побуждали к размышлению о "фрагментированном мире", о котором писал Донн в поминальной элегии.
Был ли особый смысл в первоначальном расположении панелей, какая-то сквозная тема, сейчас не скажешь. Их сняли со стен в родном Хостеде ещё в XVII столетии, какое-то время они висели в коридоре Хардвик-Хауса в Саффолке, потом коллекции отвели отдельную комнатку, на фотографии как раз она. Но вряд ли история была единой, весь смысл её как раз в дробности, в мозаике, из которой складывается мир и его восприятие.
Человек переходит ручей под девизом "Будь осторожен, когда идёшь вброд"; два цветка, подсписанные — исследователи расходятся в толковании — то ли "Или колется, или дурно пахнет", то ли "Или бери, или оставь как есть"; русалка, как положено, глядится в зеркало, подпись гласит то ли: "По лицу видна моя надежда", то ли "Надеюсь на внешность"; птица Рух тащит в когтях слона под девизом "Нет времени на пустяки" и т.д. Нынешнему человеку не всё понятно, но изображения, безусловно, исполнены значения.
Удивительно, насколько на панели леди Друри похожи изразцы печек из моих любимых залов декоративно-прикладного искусства Русского музея — исполнены изразцы, конечно, более мастеровито, всё-таки профессиональная работа, но на них тоже эмблемы с текстом. Лев со скипетром, "Знаю правительство"; птица, клюющая лист, "Тем питаюся"; дивный толстый зелёный заяц, возведший очи горе, и дева, указующая пальцем себе в грудь, я это, дескать, "Приучаю его к себе"; и прочие.
Если вдуматься, наши мемасики с подписями растут от того же корня, от потребности в эмблематическом сочетании картинки и текста, рождающем нечто, превосходящее простое сложение отдельных значений. Разве что делать их проще, чем расписные настенные панели или печные изразцы.
❤154🔥44👍43🥰2👏2😁2
Forwarded from глоток бензина
Меч, с которым часто изображают святую Екатерину, это положенное святому орудие мученичества, мечом ей отрубили голову. Но иногда, почему-то чаще всего в нидерландской и фламандской живописи, она так держит этот меч, что парчовые её одежды начинают казаться латами, головной убор — шлемом, а сама она — сами смотрите.
Святая Екатерина с левой части алтарного триптиха фламандской работы, 1520-е годы. Национальный Музей старинного искусства, Лиссабон.
Святая Екатерина с левой части алтарного триптиха фламандской работы, 1520-е годы. Национальный Музей старинного искусства, Лиссабон.
❤132👍41❤🔥11🔥5
Forwarded from Старшина Шекспир
Стоило помянуть шекспировское undone, застучал опять в голове монолог Елены из All's Well That Ends Well, который весь из этого undone растёт, как из зерна. Удивительный текст, разбитый надвое сочной ренессансной похабщиной, разговором с Паролем о девственности, он в результате спрессовки полярностей взлетает и падает такой тахикардической кардиограммой, что только держись. Чтение Шекспира вообще есть практика сугубо телесная, оно заставляет тебя дышать по-своему, задыхаться, как надо, перехватывает частоту сердечного сокращения, затягивает вас с речью друг в друга, в узел, так что уже слова начинают тобой дышать, тобой теплеть, а ты раскаляешься добела от их движения горлом и сосудами.
Перечисляя тысячу любовей, которую найдёт Бертрам при дворе, Елена впадает в модус, традиционный для ренессансной поэзии, от учёного средневековья перенявшей любовь к спискам, перечням, низанию семантических жемчугов, упорядочению мира через именование, — а как ещё его пережить-то? — но не столько от ума, сколько от любовной тоски, от того, что молчать физически больно. Там, на недосягаемой орбите, Бертрана ждёт целый мир прелестных ласкательных имён, которыми нарекает жмурящийся болтун Купидон:
A mother and a mistress and a friend,
A phoenix, captain and an enemy,
A guide, a goddess, and a sovereign,
A counsellor, a traitress, and a dear...
В переводе Донского — хорошем! — это всё превращается в усреднённо-пиитическую шелуху:
"Владычица", "возлюбленная", "друг",
"Губительница", "госпожа", "царица",
"Изменница", "волшебница", "богиня" и т.д.
А у Елены-то "мать, госпожа, друг, феникс, капитан (да, "глава" любого рода, но прежде всего "командир"), враг, проводник, богиня и суверен ("владычица" слишком общо, здесь именно монаршая верховная власть), советник, предательница и милая" — совсем другой строй именования дамы, с отчётливым уклоном в строну войны и власти, без которых невозможна речь о любви в шекспировское время; но и высокая мистика, феникс, классическая женская эмблема, поскольку птица женского рода в родном языке любовной поэзии Ренессанса, итальянском.
И это ведь ещё завораживающей красоты звучание: a guide, a goddess and a sovereign, чередование заднеязычных и переднеязычных, передача пульсации от горла к кончику языка, с прикусыванием губы и финальным звоном в sovereign.
Пьеса не первого ряда по общему мнению, не "Гамлет", чай.
Перечисляя тысячу любовей, которую найдёт Бертрам при дворе, Елена впадает в модус, традиционный для ренессансной поэзии, от учёного средневековья перенявшей любовь к спискам, перечням, низанию семантических жемчугов, упорядочению мира через именование, — а как ещё его пережить-то? — но не столько от ума, сколько от любовной тоски, от того, что молчать физически больно. Там, на недосягаемой орбите, Бертрана ждёт целый мир прелестных ласкательных имён, которыми нарекает жмурящийся болтун Купидон:
A mother and a mistress and a friend,
A phoenix, captain and an enemy,
A guide, a goddess, and a sovereign,
A counsellor, a traitress, and a dear...
В переводе Донского — хорошем! — это всё превращается в усреднённо-пиитическую шелуху:
"Владычица", "возлюбленная", "друг",
"Губительница", "госпожа", "царица",
"Изменница", "волшебница", "богиня" и т.д.
А у Елены-то "мать, госпожа, друг, феникс, капитан (да, "глава" любого рода, но прежде всего "командир"), враг, проводник, богиня и суверен ("владычица" слишком общо, здесь именно монаршая верховная власть), советник, предательница и милая" — совсем другой строй именования дамы, с отчётливым уклоном в строну войны и власти, без которых невозможна речь о любви в шекспировское время; но и высокая мистика, феникс, классическая женская эмблема, поскольку птица женского рода в родном языке любовной поэзии Ренессанса, итальянском.
И это ведь ещё завораживающей красоты звучание: a guide, a goddess and a sovereign, чередование заднеязычных и переднеязычных, передача пульсации от горла к кончику языка, с прикусыванием губы и финальным звоном в sovereign.
Пьеса не первого ряда по общему мнению, не "Гамлет", чай.
❤111🔥30👍20
"Арбатель" Жака Гохория, французского алхимика, врача, переводчика и вообще человека эпохи Возрождения, приятеля Дю Белле по Риму. Настоящая книга заклинаний XVI века, на неё ссылались Джон Ди и Роберт Фладд; там есть, в частности, "Печать Тайн", с помощью которой можно ангелов призывать.
Продают на Кристис, эстимейт £4000-6000. И нидораха.
Продают на Кристис, эстимейт £4000-6000. И нидораха.
🔥83👍25😱12❤8🤔3