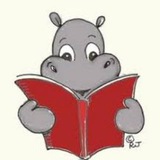Заметка №4. От расчеловечивания к бесчеловечию.
Значительная часть современной политической теории – это разные версии критической теории. В базовых предпосылках критических теорий нет ничего плохого. Слова, которыми мы описываем и познаем мир, кем-то и с какой-то целью придуманы. Это значит, что некоторые ситуации не получается описать словами, поскольку кто-то не задавался целью их описывать или, наоборот, очень хотел, чтобы об этих ситуациях не говорили. Критические теории стремятся выявить такие разрывы между реальностью языка и реальностью практики, чтобы показать многообразие мира и поведать ранее нерассказанные истории.
В англо-саксонских странах этот поиск новых красок мира приобрел несколько странные формы. Если упростить, разрыв реальности языка и реальности практики был полностью и безоговорочно отождествлен с неравенством на практике. Поскольку со времен Французской революции, идеалы равенства с некоторым шарканьем движутся по нашей планете, вывод делается однозначный: раз что-то не так на практике, нужно исправить, и практику, и язык. Как устранить неравенство? Дать обделенным то, чего у них не было и что было у остальных, и дать в непропорционально большом размере, чтобы компенсировать несправедливость не только в настоящем, но и в прошлом.
В результате, была запущена «фабрика» по производству меньшинств – расовых, этнических, гендерно-сексуальных и прочих. Для этих меньшинств возникли специфические критические теории с особой терминологией (то есть, свои языки), а на уровне практики появились и внедряются идея квот и «исторически первых» (первый в истории трансгендер-генерал, первый министр азиатского происхождения, первый парламентарий из коренных народов и пр.).
С философской точки зрения, происходит расчеловечивание: вместо Человека как такового появляется множество обособленных групп людей, которые не признают очевидной человеческой общности и требуют к себе особого отношения. Более того, поскольку «фабрика» по производству меньшинств постоянно добавляет новые типы меньшинств, общества не могут остановиться, отдышаться, привыкнуть к новым групповым реалиям и договориться о правилах игры. В итоге, расчеловечивание ведет к тому, что намного сложнее двигаться к общим интересам внутри государств и между ними; к тому, что при устранении неравенства совершаются новые несправедливости, но на подобное развитие событий не реагируют, так как на это не хватает времени или это не касается меньшинств.
Новый номер профильного журнала Political Theory, вышедший к 50-летней годовщине издания, прокладывает путь еще дальше. А что, если политическая теория не будет заниматься только людьми?
Конечно, многие темы в этом номере неновые. О правах животных писал еще Иеремия Бентам. Недавно блистала книжка Ф. де Валя о политике у шимпанзе. Карел Чапек, Станислав Лем, Айзек Азимов подарили нам много идей по поводу роботов. Бруно Латур фактически целую жизнь исследовал значение неживых предметов для социальных взаимодействий.
Однако журнал собрал воедино все или почти все аспекты нечеловеческой политической теории – компьютеры и микрочипы (как постсовременные рабы), инопланетяне (не показываются нам, потому что боятся нашей враждебности), леса (их голос можно услышать, если вспомнить подавленные знания древних) и прочее. В нескольких эссе этого номера воспроизводится тезис, что мир людей – это всегда мир «не только людей» и что игнорировать «не только людей» для политической теории более невозможно. Так что дальнейшее направление развития англо-саксонской версии критических теорий – борьба с исключительностью людей, обличение их аморального отношения к остальным жителям Вселенной, поиск языка и практик исправления этого вопиющего неравенства.
Ждет ли нас полностью бесчеловечный мир политического языка и политической практики? Истина где-то там…
https://journals.sagepub.com/toc/ptxa/51/1
Значительная часть современной политической теории – это разные версии критической теории. В базовых предпосылках критических теорий нет ничего плохого. Слова, которыми мы описываем и познаем мир, кем-то и с какой-то целью придуманы. Это значит, что некоторые ситуации не получается описать словами, поскольку кто-то не задавался целью их описывать или, наоборот, очень хотел, чтобы об этих ситуациях не говорили. Критические теории стремятся выявить такие разрывы между реальностью языка и реальностью практики, чтобы показать многообразие мира и поведать ранее нерассказанные истории.
В англо-саксонских странах этот поиск новых красок мира приобрел несколько странные формы. Если упростить, разрыв реальности языка и реальности практики был полностью и безоговорочно отождествлен с неравенством на практике. Поскольку со времен Французской революции, идеалы равенства с некоторым шарканьем движутся по нашей планете, вывод делается однозначный: раз что-то не так на практике, нужно исправить, и практику, и язык. Как устранить неравенство? Дать обделенным то, чего у них не было и что было у остальных, и дать в непропорционально большом размере, чтобы компенсировать несправедливость не только в настоящем, но и в прошлом.
В результате, была запущена «фабрика» по производству меньшинств – расовых, этнических, гендерно-сексуальных и прочих. Для этих меньшинств возникли специфические критические теории с особой терминологией (то есть, свои языки), а на уровне практики появились и внедряются идея квот и «исторически первых» (первый в истории трансгендер-генерал, первый министр азиатского происхождения, первый парламентарий из коренных народов и пр.).
С философской точки зрения, происходит расчеловечивание: вместо Человека как такового появляется множество обособленных групп людей, которые не признают очевидной человеческой общности и требуют к себе особого отношения. Более того, поскольку «фабрика» по производству меньшинств постоянно добавляет новые типы меньшинств, общества не могут остановиться, отдышаться, привыкнуть к новым групповым реалиям и договориться о правилах игры. В итоге, расчеловечивание ведет к тому, что намного сложнее двигаться к общим интересам внутри государств и между ними; к тому, что при устранении неравенства совершаются новые несправедливости, но на подобное развитие событий не реагируют, так как на это не хватает времени или это не касается меньшинств.
Новый номер профильного журнала Political Theory, вышедший к 50-летней годовщине издания, прокладывает путь еще дальше. А что, если политическая теория не будет заниматься только людьми?
Конечно, многие темы в этом номере неновые. О правах животных писал еще Иеремия Бентам. Недавно блистала книжка Ф. де Валя о политике у шимпанзе. Карел Чапек, Станислав Лем, Айзек Азимов подарили нам много идей по поводу роботов. Бруно Латур фактически целую жизнь исследовал значение неживых предметов для социальных взаимодействий.
Однако журнал собрал воедино все или почти все аспекты нечеловеческой политической теории – компьютеры и микрочипы (как постсовременные рабы), инопланетяне (не показываются нам, потому что боятся нашей враждебности), леса (их голос можно услышать, если вспомнить подавленные знания древних) и прочее. В нескольких эссе этого номера воспроизводится тезис, что мир людей – это всегда мир «не только людей» и что игнорировать «не только людей» для политической теории более невозможно. Так что дальнейшее направление развития англо-саксонской версии критических теорий – борьба с исключительностью людей, обличение их аморального отношения к остальным жителям Вселенной, поиск языка и практик исправления этого вопиющего неравенства.
Ждет ли нас полностью бесчеловечный мир политического языка и политической практики? Истина где-то там…
https://journals.sagepub.com/toc/ptxa/51/1
Sage Journals
Political Theory - Volume 51, Number 1, Feb 01, 2023
Table of contents for Political Theory, 51, 1, Feb 01, 2023
🤔3✍1👏1
Года два назад в закрытом аналитическом материале доводилось писать на эту тему. Медицина и вакцины, если грамотно все сделать, - потенциально наш конек в Африке.
🤔1
Forwarded from Путешествия по Суахиляндии
Почему от опаснейших африканских инфекций до сих пор нет вакцин? Какую тайну пытаются раскрыть российские учёные в Африке? Какое слово нельзя произносить в разговоре с жителями гвинейских деревень?
В ИМИ МГИМО - не совсем обычный гость. Настала пора нам расширять наши гуманитарные горизонты за счет точных и естественных наук) Как российские микробиологи и вирусологи помогают Африке бороться со смертельными инфекциями, обсудили старший научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов и младший научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Майя Никольская.
https://www.youtube.com/watch?v=sbSe51AFT5g&list=PLfWc_SG3Az33PEn4dZDPcoPdYYx7UHG1S&index=4
В ИМИ МГИМО - не совсем обычный гость. Настала пора нам расширять наши гуманитарные горизонты за счет точных и естественных наук) Как российские микробиологи и вирусологи помогают Африке бороться со смертельными инфекциями, обсудили старший научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов и младший научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Майя Никольская.
https://www.youtube.com/watch?v=sbSe51AFT5g&list=PLfWc_SG3Az33PEn4dZDPcoPdYYx7UHG1S&index=4
YouTube
Российские учёные против африканских вирусов
Почему от опаснейших африканских инфекций до сих пор нет вакцин? Какую тайну пытаются раскрыть российские учёные в Африке? Какое слово нельзя произносить в разговоре с жителями гвинейских деревень?
Как российские микробиологи и вирусологи помогают Африке…
Как российские микробиологи и вирусологи помогают Африке…
❤🔥2👍1
В списке почти одни ноунеймы, практически список-клон смп рапн (ну, я ни тех, ни других не знаю - кроме пары имен).
Красивая мистификация с графиками и картинками
Красивая мистификация с графиками и картинками
💯1
Forwarded from Карягин
Нью-эйдж: политологи новой волны и где они обитают
Конфликт поколений в профессиональной среде политологов, наметившийся в начале 2023 года, обострил дискуссию о том, как должна производиться ротация, чем политологи новой волны отличаются от представителей старой школы и множество других вопросов.
При этом мы примерно понимаем портрет политолога старой школы. Есть различные рейтинги влиятельности, оценки показателей эффективности и цитируемости научных и аналитических центров, которые они представляют. С молодыми политологами сложнее. Они менее медийны, еще не успели заработать репутацию, о многих из них знают только такие же молодые политологи.
Мы собрали список из 24 молодых политологов, проявляющих публичную активность. Мы проанализировали, каким академическим бэкграундом они обладают, и о чём они пишут в Сети, и кто на самом деле эти политологи новой волны.
Подробный материал – на сайте Неполитолога.
P.S. материал написан молодыми политологами 😉
Конфликт поколений в профессиональной среде политологов, наметившийся в начале 2023 года, обострил дискуссию о том, как должна производиться ротация, чем политологи новой волны отличаются от представителей старой школы и множество других вопросов.
При этом мы примерно понимаем портрет политолога старой школы. Есть различные рейтинги влиятельности, оценки показателей эффективности и цитируемости научных и аналитических центров, которые они представляют. С молодыми политологами сложнее. Они менее медийны, еще не успели заработать репутацию, о многих из них знают только такие же молодые политологи.
Мы собрали список из 24 молодых политологов, проявляющих публичную активность. Мы проанализировали, каким академическим бэкграундом они обладают, и о чём они пишут в Сети, и кто на самом деле эти политологи новой волны.
Подробный материал – на сайте Неполитолога.
P.S. материал написан молодыми политологами 😉
Nepolitolog
Нью-эйдж
Политологи новой волны и где они обитают
🤨2
А вообще, конец недели нужно встречать на позитиве.
Сегодня исполнилось 97 лет композитору Александру Зацепину - на рубеже 70-80 гг. он вытворял что-то невероятное с электронной музыкой. А прославили его простые и запоминающиеся мелодии из фильмов.
Сейчас иногда говорят, что появление массовой культуры и незамысловатой эстрады подорвало идеологическое доминирование партии, привело к двоемыслию и затем к перестройке. Однако, губит страну не массовая культура, губит недостаток социальных лифтов. Даже Зацепин в какой-то момент вынужден был пожить в эмиграции.
https://www.youtube.com/watch?v=cYN-q8s2ZrE
Сегодня исполнилось 97 лет композитору Александру Зацепину - на рубеже 70-80 гг. он вытворял что-то невероятное с электронной музыкой. А прославили его простые и запоминающиеся мелодии из фильмов.
Сейчас иногда говорят, что появление массовой культуры и незамысловатой эстрады подорвало идеологическое доминирование партии, привело к двоемыслию и затем к перестройке. Однако, губит страну не массовая культура, губит недостаток социальных лифтов. Даже Зацепин в какой-то момент вынужден был пожить в эмиграции.
https://www.youtube.com/watch?v=cYN-q8s2ZrE
YouTube
Вячеслав Невинный - Губит людей не пиво
А.Зацепин - Л.Дербенев
Из к/ф "Не может быть!", реж. Л.Гайдай, Мосфильм, 1975. Полная версия весни. В фильме песня звучит без 2-го куплета.
Из к/ф "Не может быть!", реж. Л.Гайдай, Мосфильм, 1975. Полная версия весни. В фильме песня звучит без 2-го куплета.
❤3
Заметка №5. Карл Шмитт и евразийская интеграция.
О Карле Шмитте традиционно говорят и пишут с оговорками – мол, «юрист III рейха», «провокационный философ». А еще – нечитабельный автор, крайний реакционер, представитель политического апокалептизма (слово дня!). Это все верно. Но также верно, что это был необычный, по-немецки логичный и дотошный мыслитель, у которого можно чему-то научиться и что-то для себя подсмотреть.
У Шмитта применительно к международным отношениям есть два важных понятия – «номос» и «большое пространство» (Großraum). Хотя в рассуждениях Шмитта многое кажется похожим на немецкую классическую геополитику, в основе его работ лежит классика – прежде всего, «Левиафан» Гоббса.
Итак, номос – «первичное» пространство. Это нечто обособленное, изъятое из общего доступа и самим фактом обособления получившее свою индивидуальность. В номосе обязательно происходит обращение и распределение ресурсов. Обязательно происходит концентрация людской деятельности где-то в одном месте пространства, но не в другом. И самое главное – пространство осознается людьми, а это осознание помогает им в повседневной жизни.
С правовой точки зрения, номос – пространство обычаев и традиций, что-то, что предшествует писанному закону. Но в то же время, это упорядоченное пространство – в нем есть границы, есть обозначение самого пространства, а разным частям пространства предписаны разные функции. То есть, номос – неразрывная связь порядка и локализации (иногда пишут - связь порядка и ориентации).
Шмитт полагал, что в какой-то момент современные (вестфальские) государства были очень прогрессивной формой политической организации. Прежде всего, потому, что они были пространственной формой организации, то есть наиболее последовательно использовали осознаваемую людьми связь географии и порядка (тот самый номос). До этого политическое упорядочивание опиралось на религию, культуру, торговлю, силовое принуждение – но только не на пространство как таковое.
К концу XIX начался упадок вестфальского/европоцентричного номоса. Государства стали осваивать морское и воздушное пространства, осуществляли колониальную и торговую экспансию. Если в прежней логике, политическое упорядочивание происходило с помощью понятных границ (например, со столбами и таможенниками или в форме линии фронта), то новый номос очевидно требовал новой логики и новых форм политической организации. Но остались «старые» вестфальские государства.
После Второй Мировой войны Карл Шмитт видел три варианта развития событий. Первый – появление глобального гегемона, то есть международного Левиафана по Гоббсу. Второй – развитие смешанного номоса, в котором процессы распределения и упорядочивания связаны с выделением особого «англо-саксонского» сегмента. В этом случае, преобладающие вестфальские государства (то есть, США) берут на себя контроль над новыми пространствами (флот, авиация), а сухопутные границы упорядочиваются в логике «старого» европейского номоса (примерно как в 1648-1918 гг.). Наконец, третий – отказ от государств как от пространственной политической формы и переход к «большим пространствам».
Последний вариант – «большое пространство» (Großraum) – имеет ряд особенностей. В конце 30-х гг. прошлого века Шмитт фактически использовал это понятие для обозначения нацистской экспансии: есть рейх, который упорядочивает пространство вокруг себя, направляет деятельность внутри него и ограничивает доступ внешних сил. Интересно, что первым историческим примером «большого пространства» мыслитель считал «Доктрину Монро» в Западном полушарии.
После Второй Мировой войны Шмитт адаптировал идею «больших пространств» и отождествил их с региональными блоками. По его мнению, в основе Großraum лежит объединение индустриального и энергетического потенциала территорий. В такой логике, вместо вестфальского объединения местоположения и порядка грядет «наполненность» пространства, объединение пространства и времени в постоянное движение. И именно такие «наполненные», очень плотные по внутренним взаимосвязям пространства он называл «большими пространствами».
О Карле Шмитте традиционно говорят и пишут с оговорками – мол, «юрист III рейха», «провокационный философ». А еще – нечитабельный автор, крайний реакционер, представитель политического апокалептизма (слово дня!). Это все верно. Но также верно, что это был необычный, по-немецки логичный и дотошный мыслитель, у которого можно чему-то научиться и что-то для себя подсмотреть.
У Шмитта применительно к международным отношениям есть два важных понятия – «номос» и «большое пространство» (Großraum). Хотя в рассуждениях Шмитта многое кажется похожим на немецкую классическую геополитику, в основе его работ лежит классика – прежде всего, «Левиафан» Гоббса.
Итак, номос – «первичное» пространство. Это нечто обособленное, изъятое из общего доступа и самим фактом обособления получившее свою индивидуальность. В номосе обязательно происходит обращение и распределение ресурсов. Обязательно происходит концентрация людской деятельности где-то в одном месте пространства, но не в другом. И самое главное – пространство осознается людьми, а это осознание помогает им в повседневной жизни.
С правовой точки зрения, номос – пространство обычаев и традиций, что-то, что предшествует писанному закону. Но в то же время, это упорядоченное пространство – в нем есть границы, есть обозначение самого пространства, а разным частям пространства предписаны разные функции. То есть, номос – неразрывная связь порядка и локализации (иногда пишут - связь порядка и ориентации).
Шмитт полагал, что в какой-то момент современные (вестфальские) государства были очень прогрессивной формой политической организации. Прежде всего, потому, что они были пространственной формой организации, то есть наиболее последовательно использовали осознаваемую людьми связь географии и порядка (тот самый номос). До этого политическое упорядочивание опиралось на религию, культуру, торговлю, силовое принуждение – но только не на пространство как таковое.
К концу XIX начался упадок вестфальского/европоцентричного номоса. Государства стали осваивать морское и воздушное пространства, осуществляли колониальную и торговую экспансию. Если в прежней логике, политическое упорядочивание происходило с помощью понятных границ (например, со столбами и таможенниками или в форме линии фронта), то новый номос очевидно требовал новой логики и новых форм политической организации. Но остались «старые» вестфальские государства.
После Второй Мировой войны Карл Шмитт видел три варианта развития событий. Первый – появление глобального гегемона, то есть международного Левиафана по Гоббсу. Второй – развитие смешанного номоса, в котором процессы распределения и упорядочивания связаны с выделением особого «англо-саксонского» сегмента. В этом случае, преобладающие вестфальские государства (то есть, США) берут на себя контроль над новыми пространствами (флот, авиация), а сухопутные границы упорядочиваются в логике «старого» европейского номоса (примерно как в 1648-1918 гг.). Наконец, третий – отказ от государств как от пространственной политической формы и переход к «большим пространствам».
Последний вариант – «большое пространство» (Großraum) – имеет ряд особенностей. В конце 30-х гг. прошлого века Шмитт фактически использовал это понятие для обозначения нацистской экспансии: есть рейх, который упорядочивает пространство вокруг себя, направляет деятельность внутри него и ограничивает доступ внешних сил. Интересно, что первым историческим примером «большого пространства» мыслитель считал «Доктрину Монро» в Западном полушарии.
После Второй Мировой войны Шмитт адаптировал идею «больших пространств» и отождествил их с региональными блоками. По его мнению, в основе Großraum лежит объединение индустриального и энергетического потенциала территорий. В такой логике, вместо вестфальского объединения местоположения и порядка грядет «наполненность» пространства, объединение пространства и времени в постоянное движение. И именно такие «наполненные», очень плотные по внутренним взаимосвязям пространства он называл «большими пространствами».
❤🔥6
В таком контексте, недавняя статья Паоло Пиццоло о Евразийском экономическом союзе – это теоретический комплимент. С некоторыми натяжками, Пиццоло видит в ЕАЭС «большое пространство» Шмитта - динамично развивающийся проект пространственного развития и действенную альтернативу старому мироустройству.
Если ЕАЭС - это "большое пространство", то значит , России и ее соседям удалось выработать что-то стоящее и более подходящее под нынешнюю логику пространства и упорядочивания. Если продолжать логику рассуждений Пиццоло, то в мире не так много "больших пространств" - Меркосур в Латинской Америке, Южноафриканский таможенный союз, NAFTA в Северной Америке. И пока все. ЕАЭС находится в неплохой компании.
Мы в России склонны критиковать евразийскую интеграцию, не замечать ее нетвердую поступь вперед. А может быть и зря.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/17550882231159940
Если ЕАЭС - это "большое пространство", то значит , России и ее соседям удалось выработать что-то стоящее и более подходящее под нынешнюю логику пространства и упорядочивания. Если продолжать логику рассуждений Пиццоло, то в мире не так много "больших пространств" - Меркосур в Латинской Америке, Южноафриканский таможенный союз, NAFTA в Северной Америке. И пока все. ЕАЭС находится в неплохой компании.
Мы в России склонны критиковать евразийскую интеграцию, не замечать ее нетвердую поступь вперед. А может быть и зря.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/17550882231159940
Sage Journals
Exploring Eurasian integration through the lenses of Carl Schmitt: The Eurasian Economic Union as an example of Schmittian “Great…
The Eurasian Economic Union (EAEU) embodies Russia’s latest attempt to restore interconnections among former Soviet countries through economic means rather than...
👍4🤔1
В тему Африки - несколько мультяшных карт континента.
Одна карта выдана по запросу "map of africa in asterix cartoon style".
Одна карта выдана по запросу "map of africa in asterix cartoon style".
🦄2