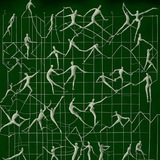Ну что я все о политике да о политике. Есть еще и другие важные вещи. Вчера мы со слушателями наконец добрались до классиков микросоциологии. Так как моего сюзерена Михаила Соколова пока рядом нет, а предполагаемая приглашенная звезда Юрий Шубин припозднился на работе, то интерпретировать тексты Эрвина Гоффмана и Гарольда Гарфинкеля для аудитории мне пришлось в одиночку. Наверное, попытки структуралистского социолога на пальцах объяснить, что такое «передний план» или «индексичные выражения», показались бы смешными любому специалисту. Но я старался, как мог. Здесь я не буду повторять эти поползновения, а только попытаюсь зафиксировать общие впечатления о социологическом методе обоих авторов. Методе не как наборе технических процедур сбора и анализа данных, а в самом возвышенном тевтонском смысле слова.
Гоффман предполагает, что наблюдатель должен быть отстранен и ироничен. Его версия социальной науки, наверное, близка к этологии. Только такой, которая про людей, а не про животных. Кринж необходимо подмечать и выявлять в поле, но в гражданской жизни лучше держаться от него подальше. Гарфинкель тоже за наблюдение, но, наоборот, максимально включенное. Агенты знают все о себе лучше, чем социологи. Так что надо учиться у них на практике. Жизнь – наука, а значит наука – жизнь. Тут интересно, что Гоффман облекает свой декларируемый позитивизм в доступную литературную форму метафор и культурных отсылок. Антипозитивизм же Гарфинкеля – это практически непроницаемые для неофита документалистские описания вперемешку с абстрактной терминологией.
Мне вспомнились два персонажа популярной культуры, которые тоже занимались очень похожими вещами, но понимали свое призвание и профессию несколько по-разному. Нет, на этот раз не Магнето и профессор Икс. Другие. Кредо первого: «Evil is evil. Lesser, greater, middling, it's all the same. I'm not judging you. I haven't only done good in my life either». Второго: «When one chooses to walk the Way of the Mandalore, you are both hunter and prey». Очень походит на позиции двух китов микросоциологии, как думаете?
Гоффман предполагает, что наблюдатель должен быть отстранен и ироничен. Его версия социальной науки, наверное, близка к этологии. Только такой, которая про людей, а не про животных. Кринж необходимо подмечать и выявлять в поле, но в гражданской жизни лучше держаться от него подальше. Гарфинкель тоже за наблюдение, но, наоборот, максимально включенное. Агенты знают все о себе лучше, чем социологи. Так что надо учиться у них на практике. Жизнь – наука, а значит наука – жизнь. Тут интересно, что Гоффман облекает свой декларируемый позитивизм в доступную литературную форму метафор и культурных отсылок. Антипозитивизм же Гарфинкеля – это практически непроницаемые для неофита документалистские описания вперемешку с абстрактной терминологией.
Мне вспомнились два персонажа популярной культуры, которые тоже занимались очень похожими вещами, но понимали свое призвание и профессию несколько по-разному. Нет, на этот раз не Магнето и профессор Икс. Другие. Кредо первого: «Evil is evil. Lesser, greater, middling, it's all the same. I'm not judging you. I haven't only done good in my life either». Второго: «When one chooses to walk the Way of the Mandalore, you are both hunter and prey». Очень походит на позиции двух китов микросоциологии, как думаете?
👍18
Сотрудники «Лаборатории публичной социологии» Максим Алюков и Наталья Савельева подробно рассказали, что можно с уверенностью знать об общественном мнении во время военных действий. Отличное введение для всех интересующихся. Максим в основном выступил в роли оптимистичного социолога, а Наталья – пессимистичного. В том смысле, что их оценки достоверности данных о поддержке и оппозиции войны в некоторых важных деталях разошлись. На мой взгляд, это как раз отлично, поскольку в итоге мы можем увидеть сбалансированную картину. Здесь я выделю только поинты, показавшиеся мне самыми яркими, так что смотрите видео целиком.
Максим отметил, что готовность участвовать в опросах за последние месяцы упала в среднем с 20% до 5%. Скорее всего, большинство не готовых к участию составляют именно те, кто боится делиться мнением, противоречащим официальной позиции. Массовый отказ отвечать вообще характерен для граждан всех авторитарных режимов. Сейчас мы видим просто радикализацию этого тренда. (Кстати, про феномен неожиданной смены политических настроений из-за недостатка описывающих их данных не так давно подробно писал Александр Шерстобитов в связи с январскими событиями в Казахстане.) Кроме того, Максим указывает, что даже поддерживающие войну признаются, что испытывают по ее поводу грусть и тревогу. Такой вид консолидации обычно не столь силен и склонен быстрее разрушаться.
Вместе с тем, Наталья заметила, что не стоит недооценивать рост процента одобрения режима. Значительная часть населения раньше отказывалась открыто поддержать власти как раз из-за того, что считала их политику слишком компромиссной. Применение силы не просто не оттолкнуло таких людей, а наоборот, наконец-то позволило им доверять режиму. Также, по мнению эксперта, не стоит обольщаться тем, что большинство людей поверхностно усваивают нарративы государственных медиа. Даже такого косвенного эффекта зачастую достаточно, чтобы человек со знанием альтернативной точки зрения переставал верить вообще всем доступным источникам, а в результате поддерживал статус-кво.
Максим отметил, что готовность участвовать в опросах за последние месяцы упала в среднем с 20% до 5%. Скорее всего, большинство не готовых к участию составляют именно те, кто боится делиться мнением, противоречащим официальной позиции. Массовый отказ отвечать вообще характерен для граждан всех авторитарных режимов. Сейчас мы видим просто радикализацию этого тренда. (Кстати, про феномен неожиданной смены политических настроений из-за недостатка описывающих их данных не так давно подробно писал Александр Шерстобитов в связи с январскими событиями в Казахстане.) Кроме того, Максим указывает, что даже поддерживающие войну признаются, что испытывают по ее поводу грусть и тревогу. Такой вид консолидации обычно не столь силен и склонен быстрее разрушаться.
Вместе с тем, Наталья заметила, что не стоит недооценивать рост процента одобрения режима. Значительная часть населения раньше отказывалась открыто поддержать власти как раз из-за того, что считала их политику слишком компромиссной. Применение силы не просто не оттолкнуло таких людей, а наоборот, наконец-то позволило им доверять режиму. Также, по мнению эксперта, не стоит обольщаться тем, что большинство людей поверхностно усваивают нарративы государственных медиа. Даже такого косвенного эффекта зачастую достаточно, чтобы человек со знанием альтернативной точки зрения переставал верить вообще всем доступным источникам, а в результате поддерживал статус-кво.
👍20
Андреас Виммер, известный своими количественными исследованиями на стыке исторической социологии государства и неоинституциональной теории организаций, выступил в непривычном для себя жанре. Он написал футурологическое эссе для Nations and Nationalism. В тексте он размышляет над тем, как может выглядеть наша политическая жизнь через 300 лет в случае, если технологические тренды сделают национальные государства неадекватными будущему положению дел. Как минимум два раза в истории человечества – в ходе Неолитической и Индустриальной революций – радикальные сдвиги в технологических укладах уже сопровождались сменой доминирующей формы политических образований. Судя по всему, не за горами и третий сдвиг, о котором нужно думать уже сейчас.
Виммер соглашается, что очень трудно вообразить этот новый дивный мир в деталях. Будут ли его населять генетически модифицированные люди? Будут ли им прислуживать роботы? Будет ли заселена Солнечная система? Эти ответы находятся вне компетенций современных социологов. Честно говоря, они и не очень-то важны. Что по-настоящему важно, так это три базовые социальные функции, которые сегодня вменены национальному государству: защита от внешних угроз, централизованное принятие решений и обеспечение публичных благ. Эти функции существовали ранее, и, скорее всего, будут существовать до тех пор, пока существуют человеческие общества. Вот от их незыблемости и можно оттолкнуться.
Швейцарский социолог располагает вдоль континуума пять возможных сценариев с определенной доминирующей политической формой в каждом. На мой взгляд, наиболее интересны из них крайние. Первый предполагает передачу всех трех ключевых государственных функций множеству локальных сообществ и корпораций. Проще говоря, анархию. Уход в прошлое бюрократического господства, впрочем, не означает окончательной победы ни добра, ни даже нейтралитета. Неограниченные плюрализм и свобода приведут к тому, что отдельные группы смогут присваивать наиболее ценные технологии и ресурсы, что автоматически будет означать колоссальное неравенство. Отсутствие арбитра, который замирил бы сообщества в их конкуренции друг с другом, также будет оставлять огромный потенциал для локального насилия.
На другом конце Виммер располагает гипотетическое единое сверхгосударство, которое, возможно, будет чем-то вроде Второго рейха или СССР, но уже в масштабах всей планеты. Оно куда успешнее решит задачи по установлению порядка и перераспределению благ, однако самым главным вызовом для него будет поиск коллективной идентичности или сверхидеи. Огромное население и комплексное разделение труда будут толкать людей к партикулярным, а не универсалистским политическим лозунгам. Даже при всех возможностях надзора и наказания мировое государство будет особенно уязвимо перед сепаратизмами собственных чиновников. Остальными значимыми сценариями по мысли Виммера могут являться распространения городов-государств, континентальных конфедераций и новых империй. В случае каждого из них он также обсуждает бенефиции и издержки. К сожалению, как и каждый хороший функционалист, Виммер куда больше думает про финальную точку равновесия, чем про тернистый путь по направлению к ней. Для социологической футурологии еще много работы.
Виммер соглашается, что очень трудно вообразить этот новый дивный мир в деталях. Будут ли его населять генетически модифицированные люди? Будут ли им прислуживать роботы? Будет ли заселена Солнечная система? Эти ответы находятся вне компетенций современных социологов. Честно говоря, они и не очень-то важны. Что по-настоящему важно, так это три базовые социальные функции, которые сегодня вменены национальному государству: защита от внешних угроз, централизованное принятие решений и обеспечение публичных благ. Эти функции существовали ранее, и, скорее всего, будут существовать до тех пор, пока существуют человеческие общества. Вот от их незыблемости и можно оттолкнуться.
Швейцарский социолог располагает вдоль континуума пять возможных сценариев с определенной доминирующей политической формой в каждом. На мой взгляд, наиболее интересны из них крайние. Первый предполагает передачу всех трех ключевых государственных функций множеству локальных сообществ и корпораций. Проще говоря, анархию. Уход в прошлое бюрократического господства, впрочем, не означает окончательной победы ни добра, ни даже нейтралитета. Неограниченные плюрализм и свобода приведут к тому, что отдельные группы смогут присваивать наиболее ценные технологии и ресурсы, что автоматически будет означать колоссальное неравенство. Отсутствие арбитра, который замирил бы сообщества в их конкуренции друг с другом, также будет оставлять огромный потенциал для локального насилия.
На другом конце Виммер располагает гипотетическое единое сверхгосударство, которое, возможно, будет чем-то вроде Второго рейха или СССР, но уже в масштабах всей планеты. Оно куда успешнее решит задачи по установлению порядка и перераспределению благ, однако самым главным вызовом для него будет поиск коллективной идентичности или сверхидеи. Огромное население и комплексное разделение труда будут толкать людей к партикулярным, а не универсалистским политическим лозунгам. Даже при всех возможностях надзора и наказания мировое государство будет особенно уязвимо перед сепаратизмами собственных чиновников. Остальными значимыми сценариями по мысли Виммера могут являться распространения городов-государств, континентальных конфедераций и новых империй. В случае каждого из них он также обсуждает бенефиции и издержки. К сожалению, как и каждый хороший функционалист, Виммер куда больше думает про финальную точку равновесия, чем про тернистый путь по направлению к ней. Для социологической футурологии еще много работы.
👍26
На днях мне удалось поучаствовать в заседаниях двух исторических секций конференции Санкт-Петербургской ассоциации социологов. Честно сказать, было тяжеловато высидеть весь длиннющий второй день, но это оправдалось. Среди прочего, я с удивлением узнал о том, что Галина Старовойтова задолго до своей трагической карьеры в политике сделала имя на исследованиях этнических меньшинств. Или о том, как органы обыскивали и увольняли социологов в апреле 1983 года после слива «Новосибирского манифеста» Татьяны Заславской немецким журналистам. Самое крутое, что часть выступлений прошла оффлайн. Можно было наконец-то познакомиться и попить чаю с живыми коллегами, а не с маленькими окошками на экране. Спасибо Владимиру Костюшеву за лидерство в организационной части!
Мой же доклад был посвящен также не очень известному кейсу в истории российской социологии – Конвенции независимых социологических центров. Эта инициатива объединила социальных исследователей, работавших вне государственных и коммерческих организаций. Несмотря на то, что главными инициаторами ее создания были главы московского «Интерцентра» Теодор Шанин и питерского ЦНСИ Виктор Воронков, в ней участвовало множество социологов из самых разных регионов России. У участников было много планов по дальнейшему выстраиванию автономного профессионального сообщества, но многое из этого так и осталось на бумаге. С 2004 по 2007 гг. было проведено только три общих съезда, а потом не только коллективное действие, но и деятельность отдельных центров начала угасать. Почему? Кто-то считает, что это произошло из-за завинчивания гаек в сфере НКО, кто-то указывает на внутренние разногласия между фракциями участников, а кто-то пеняет на сверхуспешный хантинг Вышки, переманившей к себе всех региональных звезд. Я пока взял далеко не все интервью и изучил не все документы, так что этот вопрос для меня открыт.
Разумеется, не обошлось и без капельки теории. Я немного пополемизировал с влиятельными концептуальными историями российской социологии 1990–2000 гг., написанными Александром Бикбовым и Михаилом Соколовым. На мой взгляд, конвенцию можно описать как аутентичное научное движение, дававшее символический эмпаурмент провинциальным аутсайдерам. Ни то, ни другое особо не вписывается в фокус моих предшественников на разборках социологической элиты за аппаратное влияние или финансовые ниши. Очень надеюсь, что скоро внесу в свою статью про этот кейс последние правки для рецензента. Короче, еще будет еще повод обстоятельно поговорить об этом всем на канале. А пока можно выдохнуть. Двигаюсь со своим исследованием невероятно медленно, но двигаюсь.
Мой же доклад был посвящен также не очень известному кейсу в истории российской социологии – Конвенции независимых социологических центров. Эта инициатива объединила социальных исследователей, работавших вне государственных и коммерческих организаций. Несмотря на то, что главными инициаторами ее создания были главы московского «Интерцентра» Теодор Шанин и питерского ЦНСИ Виктор Воронков, в ней участвовало множество социологов из самых разных регионов России. У участников было много планов по дальнейшему выстраиванию автономного профессионального сообщества, но многое из этого так и осталось на бумаге. С 2004 по 2007 гг. было проведено только три общих съезда, а потом не только коллективное действие, но и деятельность отдельных центров начала угасать. Почему? Кто-то считает, что это произошло из-за завинчивания гаек в сфере НКО, кто-то указывает на внутренние разногласия между фракциями участников, а кто-то пеняет на сверхуспешный хантинг Вышки, переманившей к себе всех региональных звезд. Я пока взял далеко не все интервью и изучил не все документы, так что этот вопрос для меня открыт.
Разумеется, не обошлось и без капельки теории. Я немного пополемизировал с влиятельными концептуальными историями российской социологии 1990–2000 гг., написанными Александром Бикбовым и Михаилом Соколовым. На мой взгляд, конвенцию можно описать как аутентичное научное движение, дававшее символический эмпаурмент провинциальным аутсайдерам. Ни то, ни другое особо не вписывается в фокус моих предшественников на разборках социологической элиты за аппаратное влияние или финансовые ниши. Очень надеюсь, что скоро внесу в свою статью про этот кейс последние правки для рецензента. Короче, еще будет еще повод обстоятельно поговорить об этом всем на канале. А пока можно выдохнуть. Двигаюсь со своим исследованием невероятно медленно, но двигаюсь.
👍31
Юрген Хабермас известен как, возможно, самый неугомонный полемист среди всех видных послевоенных интеллектуалов. Среди целей его критических атак было огромное количество звезд гуманитарной академии. Ранее в его интеллектуальной биографии мне были известны только дебаты с Поппером, Луманом и Фуко, но на днях мне на глаза попался еще один эпизод: Historikerstreit («Спор историков») 1986–1987 гг. Название может несколько ввести в заблуждение, так как среди участников этого академического срача были далеко не только историки, а центральной темой было не столько установление фактов, сколько актуальные оценки нацистского прошлого. Участники обменивались своими выпадами друг против друга через открытые письма в газеты. Если вам интересно, большинство из них собраны в переведенном на английский сборнике.
Зачинатель спора философ и историк идей Эрнст Нольте защищал точку зрения, что нацизм нельзя считать уникальным общественно-политическим злом. Полицейские и военные преступления были органической частью очень многих политических режимов. Вспомнить хотя бы геноцид армян или чистки Пол Пота. Кроме того, нацисты активно перенимали у СССР практики насилия, причем все более и более активно по мере осознания приближения собственного поражения. Нацизм у него в итоге – страшнейшее, но при этом лишь ответное на сталинизм зло. Нольте в итоге, конечно, не предлагал реабилитировать Гитлера и его штурмовиков. Только погрузить их в общемировой контекст войн и революций XX века, тем самым немного расслабив чувство вины немецкой нации. Надо отметить, что Нольте не был одинок в своем мнении. Он опирался на широкий консенсус значительной части жителей ФРГ и только артикулировал его на профессиональном языке.
Хабермас был одним из тех, кто уловил в довольно сложном аргументе Нольте и его сторонников отчетливые нотки вотэбаутизма. Он соглашался, что руки в крови были у всех тоталитарных режимов. Однако только Германия отличалась среди них таким высоким уровнем развития рынка, урбанизации и системы образования. Преступления немцев особенно потрясают потому, что их невозможно списать исключительно на неграмотность и бедность. Короче говоря, чем выше Модерн, тем больше ответственность за его незавершенность. Сравнительный метод только подчеркивает эту максиму.
Все эти аргументы, конечно, остро резонируют с тем, что происходит вокруг нас и еще будет происходить долгие годы. Однако мне хочется прокомментировать только определенный узел полемики. Для меня письма Хабермаса являются еще одним доказательством степени разработанности его социологической теории. Хотя левое парсонианство немца часто уличают в наивном идеализме, «Спор историков» лишний раз показывает, насколько проработана им взаимозависимость экономической, административной и культурной подсистем общества, а также указывает на осознание укоренности позиции ученого в его функционировании. Признание важности жизненного мира означает и возможность занять к нему критическую позицию. Напротив, аргументы противоположного лагеря часто исходят из постхайдеггеровской герменевтики с ее абсолютным доверием к отдельным перспективам и опытам. Это характерно не только для Нольте, но и для Андреаса Хилльгрубера, предлагающего рассматривать всерьез точки зрения солдат Вермахта. Не уверен, что интерпретативные подходы позволяют чекать момент перехода от понимания к принятию.
Зачинатель спора философ и историк идей Эрнст Нольте защищал точку зрения, что нацизм нельзя считать уникальным общественно-политическим злом. Полицейские и военные преступления были органической частью очень многих политических режимов. Вспомнить хотя бы геноцид армян или чистки Пол Пота. Кроме того, нацисты активно перенимали у СССР практики насилия, причем все более и более активно по мере осознания приближения собственного поражения. Нацизм у него в итоге – страшнейшее, но при этом лишь ответное на сталинизм зло. Нольте в итоге, конечно, не предлагал реабилитировать Гитлера и его штурмовиков. Только погрузить их в общемировой контекст войн и революций XX века, тем самым немного расслабив чувство вины немецкой нации. Надо отметить, что Нольте не был одинок в своем мнении. Он опирался на широкий консенсус значительной части жителей ФРГ и только артикулировал его на профессиональном языке.
Хабермас был одним из тех, кто уловил в довольно сложном аргументе Нольте и его сторонников отчетливые нотки вотэбаутизма. Он соглашался, что руки в крови были у всех тоталитарных режимов. Однако только Германия отличалась среди них таким высоким уровнем развития рынка, урбанизации и системы образования. Преступления немцев особенно потрясают потому, что их невозможно списать исключительно на неграмотность и бедность. Короче говоря, чем выше Модерн, тем больше ответственность за его незавершенность. Сравнительный метод только подчеркивает эту максиму.
Все эти аргументы, конечно, остро резонируют с тем, что происходит вокруг нас и еще будет происходить долгие годы. Однако мне хочется прокомментировать только определенный узел полемики. Для меня письма Хабермаса являются еще одним доказательством степени разработанности его социологической теории. Хотя левое парсонианство немца часто уличают в наивном идеализме, «Спор историков» лишний раз показывает, насколько проработана им взаимозависимость экономической, административной и культурной подсистем общества, а также указывает на осознание укоренности позиции ученого в его функционировании. Признание важности жизненного мира означает и возможность занять к нему критическую позицию. Напротив, аргументы противоположного лагеря часто исходят из постхайдеггеровской герменевтики с ее абсолютным доверием к отдельным перспективам и опытам. Это характерно не только для Нольте, но и для Андреаса Хилльгрубера, предлагающего рассматривать всерьез точки зрения солдат Вермахта. Не уверен, что интерпретативные подходы позволяют чекать момент перехода от понимания к принятию.
👍39
У историка Павла Уварова есть крайне интересное выражение, которое запало мне в голову еще в незапамятные гумфаковские времена: великая историографическая держава. Он называл так страны, в которых существуют сильные традиции изучения не только собственного, но и чужого прошлого. Тяжело сказать, является ли таковой сейчас Россия, но СССР, по его мнению, такой державой точно был. Можно сколько угодно говорить о догматизме большинства тамошних исторических школ, но труды Дьяконова, Каждана, Гуревича внимательно изучали даже в университетах первого мира.
Я задумался: а существуют ли великие социологические державы? И если да, то в чем критерий их величия? Извините, канеш, но ничего лучше, чем наличие собственных теорий, я придумать не могу. Теорию надо понимать, разумеется, не просто как набор беззаботных абстрактных рассуждений об обществе. В такое могут и философы, и те же историки, даже публицисты и политтехнологи. Хорошая социологическая теория направляет практики эмпирических исследований и задает рамку в обсуждении их результатов. Она не роскошь, а средство коммуникации. Я вот скептически отношусь к Латуру. Однако нельзя не признать, что, соединив специфический словарь описания технологий с оригинальной этнографией, он собрал такую дискурсивную машинку, которая укрепила социологическое величие Пятой республики куда больше, чем всякие зондажи рейтингов Макрона и Ле Пен.
Получается, что великих социологических держав в наши дни даже меньше, чем историографических. Разумеется, США – это гегемон с отрывом. Социологический суверенитет Франции и Германии тоже надежен. С Британией, как мне кажется, уже не так все очевидно. Зависимость от американского и французского теоретического импорта там слишком большая. Она ближе к региональным державам, если развивать за Павла Юрьевича его метафору. Нидерланды и Италия тоже где-то на уровне региональных держав, но еще более скромных. Все остальные – тем более чьи-то социологические сателлиты. Наверняка мои диванные прикидки ограничены языковыми и субдисциплинарными барьерами. Так что буду рад альтернативным определениям великодержавности в нашей науке.
Я задумался: а существуют ли великие социологические державы? И если да, то в чем критерий их величия? Извините, канеш, но ничего лучше, чем наличие собственных теорий, я придумать не могу. Теорию надо понимать, разумеется, не просто как набор беззаботных абстрактных рассуждений об обществе. В такое могут и философы, и те же историки, даже публицисты и политтехнологи. Хорошая социологическая теория направляет практики эмпирических исследований и задает рамку в обсуждении их результатов. Она не роскошь, а средство коммуникации. Я вот скептически отношусь к Латуру. Однако нельзя не признать, что, соединив специфический словарь описания технологий с оригинальной этнографией, он собрал такую дискурсивную машинку, которая укрепила социологическое величие Пятой республики куда больше, чем всякие зондажи рейтингов Макрона и Ле Пен.
Получается, что великих социологических держав в наши дни даже меньше, чем историографических. Разумеется, США – это гегемон с отрывом. Социологический суверенитет Франции и Германии тоже надежен. С Британией, как мне кажется, уже не так все очевидно. Зависимость от американского и французского теоретического импорта там слишком большая. Она ближе к региональным державам, если развивать за Павла Юрьевича его метафору. Нидерланды и Италия тоже где-то на уровне региональных держав, но еще более скромных. Все остальные – тем более чьи-то социологические сателлиты. Наверняка мои диванные прикидки ограничены языковыми и субдисциплинарными барьерами. Так что буду рад альтернативным определениям великодержавности в нашей науке.
👍20
Написал заявление на отчисление из вышкинской аспирантуры. В этом нет никакой политической позиции. Только огромная накопленная психологическая усталость последних месяцев. К сожалению, иногда приходится чем-то жертвовать, чтобы просто удержаться на ногах. Учитывая мою медкарту, сначала думал уйти в академический отпуск, но оказалось, что для этого сейчас требуется дополнительное обследование в ПНД по месту жительства. Долгое странствие по инстанциям совсем не входит в мои планы, так что решил поступить по-простому.
Если все будет нормально, то через год вернусь назад к учебе посвежевшим и отдохнувшим. Хотя в нынешних условиях трудно загадывать и на неделю вперед. Пока же буду по мере сил продолжать копаться в SSSH и социологической теории как независимый исследователь. Будем встречаться на канале, как и раньше. Спасибо за ваше участие и поддержку.
Немного иронично, что с этой же недели начну вести семинарские занятия по соцтеории у вышкинских баков. Был рад, когда коллеги позвали присоединиться к команде их майнора. В очередной раз осознал, что в академической жизни меня привлекает в первую очередь именно преподавание. Оно всегда прибавляет мне сил куда больше, чем отнимает. Напротив, собственные исследования несут с собой обычно одни лишь дедлайновые стрессы и вечные сравнения себя с кем-то другим.
Наверное, мне было бы комфортнее чувствовать себя в университете догумбольдтовской эпохи. Можно было бы просто пересказывать студентам рукописи греческих, арабских и еврейских мудрецов, не сильно парясь по поводу актуальности и продуктивности. Из минусов такого попаданства – пристальное внимание папских легатов, но, как мы видим, его и сейчас дофига.
Если все будет нормально, то через год вернусь назад к учебе посвежевшим и отдохнувшим. Хотя в нынешних условиях трудно загадывать и на неделю вперед. Пока же буду по мере сил продолжать копаться в SSSH и социологической теории как независимый исследователь. Будем встречаться на канале, как и раньше. Спасибо за ваше участие и поддержку.
Немного иронично, что с этой же недели начну вести семинарские занятия по соцтеории у вышкинских баков. Был рад, когда коллеги позвали присоединиться к команде их майнора. В очередной раз осознал, что в академической жизни меня привлекает в первую очередь именно преподавание. Оно всегда прибавляет мне сил куда больше, чем отнимает. Напротив, собственные исследования несут с собой обычно одни лишь дедлайновые стрессы и вечные сравнения себя с кем-то другим.
Наверное, мне было бы комфортнее чувствовать себя в университете догумбольдтовской эпохи. Можно было бы просто пересказывать студентам рукописи греческих, арабских и еврейских мудрецов, не сильно парясь по поводу актуальности и продуктивности. Из минусов такого попаданства – пристальное внимание папских легатов, но, как мы видим, его и сейчас дофига.
👍103
Российский Фейсбучек разгневан недавним текстом старика Хабермаса по поводу войны в Украине. Пунктов недовольства по большому счету два. Во-первых, все рукопожатные люди должны поддерживать правительство Зеленского по любому вопросу. Дистанцироваться, а тем более критиковать его – это значит автоматически выступать за путинский режим. Во-вторых, тем более запрещено высказываться критически с левых позиций. Все левые, даже умеренные – это путинферштееры, мошенники и поджигатели. В общем, уели Хабермаса. Как он сохранит свою репутацию после такого разгрома?
Если серьезно, то я вижу в его комментарии два очень актуальных поинта, которые, к сожалению, приходится восстанавливать по саммари немецких медиа, так как оригинальный текст пока за пейволлом. Во-первых, высказывания украинских официальных лиц, а тем более деятелей культуры и бизнеса очень часто строятся на требовании к европейским странам помогать не только оружием и санкциями, а самим вступить в войну. Вспомнить хотя бы идею с «закрытием неба». Эскалации необходимо избежать, публично сформулировав цели Германии и других членов ЕС в этой войне, а не реактивно действуя по ситуации от дня ко дню.
Во-вторых, как бы ни относиться к украинскому национализму, даже признавая его гражданские и антиимпериалистические черты, он остается национализмом. Дело тут даже не в том, что любое национальное движение по определению плохое. Все сложнее. Поддержка любого национального строительства со стороны ЕС – это довольно амбивалентная штука, которая может больно ударить по легитимности самого ЕС. Космополитический идеал должен сохраняться. Хабермас в итоге формулирует дилемму стран ЕС как следование позиции, которая не будет вестись не только на ядерный шантаж Путина, но и на моральный шантаж Зеленского. Сформулировано жестко, но it is what it is.
При этом я бы особо отметил, что высказывание Хабермаса – это высказывание интеллектуала и гражданина ЕС. Не меньше, но и не больше. Оно не может претендовать на окончательную истину согласно его же теории коммуникативного действия. Короче говоря, нам также стоит вырабатывать собственное отношение к происходящему. Это означает сочувствовать украинцам и противостоять российской агрессии, но в то же время избегать простого повторения слов хоть Хабермаса, хоть Арестовича.
Если серьезно, то я вижу в его комментарии два очень актуальных поинта, которые, к сожалению, приходится восстанавливать по саммари немецких медиа, так как оригинальный текст пока за пейволлом. Во-первых, высказывания украинских официальных лиц, а тем более деятелей культуры и бизнеса очень часто строятся на требовании к европейским странам помогать не только оружием и санкциями, а самим вступить в войну. Вспомнить хотя бы идею с «закрытием неба». Эскалации необходимо избежать, публично сформулировав цели Германии и других членов ЕС в этой войне, а не реактивно действуя по ситуации от дня ко дню.
Во-вторых, как бы ни относиться к украинскому национализму, даже признавая его гражданские и антиимпериалистические черты, он остается национализмом. Дело тут даже не в том, что любое национальное движение по определению плохое. Все сложнее. Поддержка любого национального строительства со стороны ЕС – это довольно амбивалентная штука, которая может больно ударить по легитимности самого ЕС. Космополитический идеал должен сохраняться. Хабермас в итоге формулирует дилемму стран ЕС как следование позиции, которая не будет вестись не только на ядерный шантаж Путина, но и на моральный шантаж Зеленского. Сформулировано жестко, но it is what it is.
При этом я бы особо отметил, что высказывание Хабермаса – это высказывание интеллектуала и гражданина ЕС. Не меньше, но и не больше. Оно не может претендовать на окончательную истину согласно его же теории коммуникативного действия. Короче говоря, нам также стоит вырабатывать собственное отношение к происходящему. Это означает сочувствовать украинцам и противостоять российской агрессии, но в то же время избегать простого повторения слов хоть Хабермаса, хоть Арестовича.
👍70
Социальные истоки протестов 1968 года обычно связывают с расширением доступности высшего образования и концентрацией масс студенчества в кампусах. Бен Мерсер исследует в своей статье для Journal of the History of Ideas менее обсуждаемую предпосылку общественных движений того времени – революцию в книгоиздании. По его мнению, именно взлет тиражей карманных книг в мягкой обложке – пейпербеков – создали фон для тех политических потрясений, заодно навсегда изменив весь комплекс наших практик, связанных с чтением.
Австралийский историк показывает, что книгоиздательская революция позволила невиданному ранее числу неофитов приобщиться к высокой культуре без чьего-либо посредничества. Она подорвала мистическую ауру богемы и профессуры, почти как Реформация нивелировала власть духовенства. Отсюда получила распространение утопия тотальной демократизации философии, науки и искусства, которая вдохновляла выступления студентов во многих странах мира. Своего рода отрыжкой процесса ликвидации монополий на знание стал также подрыв веры в его особое значение. Антиинтеллектуализм и релятивизм стали маркерами эпохи.
Одновременно с этим книга фактически превратилась в ходовой товар, а рынок литературы стал одним из главных столпов символического потребления среднего городского жителя. Распространение привычки покупать все модные книжные новинки или собрания сочинений классиков, но не читать, а просто ставить их на полку, также родом из 1960-х гг. Не только консервативно, но и радикально настроенные представители образованного класса стали пытаться вернуть книге аристократический статус через создание групп, кружков, клубов или, наоборот, усиление приватности чтения с помощью карандашных пометок, закладок и т.п. Издательства также ответили выпуском все таких же дешевых, но уже нишевых малотиражных изданий. В итоге культурная стратификация никуда не делась, а просто стала проходить по иным, менее бросающимся в глаза линиям.
Знакомство со статьей Мерсера автоматически заставляет примерять его наблюдения на наши дни. Как будто бы описанный им процесс только усиливается. Книга все больше превращается из осязаемой вещи в электронную копию. Не говоря уже о пиратстве, благодаря которому все мы здесь сегодня собрались. С другой стороны, потребность в перезаколдовывании печатного слова никуда не делась. Куча людей набивается на ивенты в «Порядок слов» или «Пиотровский». Будем ждать исследований по этому поводу.
Австралийский историк показывает, что книгоиздательская революция позволила невиданному ранее числу неофитов приобщиться к высокой культуре без чьего-либо посредничества. Она подорвала мистическую ауру богемы и профессуры, почти как Реформация нивелировала власть духовенства. Отсюда получила распространение утопия тотальной демократизации философии, науки и искусства, которая вдохновляла выступления студентов во многих странах мира. Своего рода отрыжкой процесса ликвидации монополий на знание стал также подрыв веры в его особое значение. Антиинтеллектуализм и релятивизм стали маркерами эпохи.
Одновременно с этим книга фактически превратилась в ходовой товар, а рынок литературы стал одним из главных столпов символического потребления среднего городского жителя. Распространение привычки покупать все модные книжные новинки или собрания сочинений классиков, но не читать, а просто ставить их на полку, также родом из 1960-х гг. Не только консервативно, но и радикально настроенные представители образованного класса стали пытаться вернуть книге аристократический статус через создание групп, кружков, клубов или, наоборот, усиление приватности чтения с помощью карандашных пометок, закладок и т.п. Издательства также ответили выпуском все таких же дешевых, но уже нишевых малотиражных изданий. В итоге культурная стратификация никуда не делась, а просто стала проходить по иным, менее бросающимся в глаза линиям.
Знакомство со статьей Мерсера автоматически заставляет примерять его наблюдения на наши дни. Как будто бы описанный им процесс только усиливается. Книга все больше превращается из осязаемой вещи в электронную копию. Не говоря уже о пиратстве, благодаря которому все мы здесь сегодня собрались. С другой стороны, потребность в перезаколдовывании печатного слова никуда не делась. Куча людей набивается на ивенты в «Порядок слов» или «Пиотровский». Будем ждать исследований по этому поводу.
👍39
Coming out as a kantian
За годы в академии я неплохо научился осваивать чужие теоретические языки, но так пока и не овладел искусством собственных формулировок. Большинство наименований для посещающих меня интуиций придумывает легендарный Сюткин. Возможно, стоит начать платить ему за это (а еще за идею делать заглавия к постам). Так и в этот раз во время очередной беседы о границах познания в социальных науках он предложил мне перестать использовать довольно заезженный лейбл «позитивист» и придумал вместо него новый – «структуралистский кантианец». Ведь по содержанию мои аргументы за объективность социальных наук так или иначе восходят к аргументам Канта, просто переосмысленным в ходе изучения морфологии общества Дюркгеймом и его многочисленными последователями.
Сжатое видение этой самой позиции на данный момент следующее. Целью наук является разработка языков объективного описания реальности. Происходит это за счет разделения когнитивного труда: обособления науки от других сфер деятельности и специализации внутри нее на дисциплины и школы. Без осознания сходств и отличий собственных языковых компетенций относительно языковых компетенций коллег их смысл полностью теряется. Субъектом познания, таким образом, являются не отдельные люди, а система отношений между ними – общество.
Вместе с тем, развитие и углубление языков неизбежно сопровождается умножением апорий. Например, квантовые физики воспринимают материю совсем в иных понятиях, нежели астрофизики, а трактовка палеонтологами жизни отличается от оной у молекулярных биологов. В этом нет никакой проблемы, пока им удается интеллигентно договариваться о границах собственных юрисдикций, понимая, что они делают общее дело. Единство познающего субъекта поддерживается несмотря на дробление его внутри себя. В социальных и гуманитарных науках к подобным джентльменским соглашениям удается прийти куда реже. Борьба между конкурирующими группами исследователей приводит здесь не к миру, а к чьему-нибудь дисциплинарному империализму или целым континентам провалившихся дисциплин. Субъект рассыпается на части.
Выходом из этого естественного состояния для обществоведов и гуманитариев является реабилитация старомодной цели: несмотря ни на что, разобраться в хаосе самых разных языков и выработке правил разумной коммуникации между собой. Это одновременно требует и понимания смысла сказанного друг другу, и сопротивления господствующим в обществе группам, стремящихся присвоить науку в своих целях, и совершенствования методологического инструментария через математизацию. Более конкретных способов, как это должно достигаться, у меня пока нет. Но как что-то появится – обязательно дам вам знать.
За годы в академии я неплохо научился осваивать чужие теоретические языки, но так пока и не овладел искусством собственных формулировок. Большинство наименований для посещающих меня интуиций придумывает легендарный Сюткин. Возможно, стоит начать платить ему за это (а еще за идею делать заглавия к постам). Так и в этот раз во время очередной беседы о границах познания в социальных науках он предложил мне перестать использовать довольно заезженный лейбл «позитивист» и придумал вместо него новый – «структуралистский кантианец». Ведь по содержанию мои аргументы за объективность социальных наук так или иначе восходят к аргументам Канта, просто переосмысленным в ходе изучения морфологии общества Дюркгеймом и его многочисленными последователями.
Сжатое видение этой самой позиции на данный момент следующее. Целью наук является разработка языков объективного описания реальности. Происходит это за счет разделения когнитивного труда: обособления науки от других сфер деятельности и специализации внутри нее на дисциплины и школы. Без осознания сходств и отличий собственных языковых компетенций относительно языковых компетенций коллег их смысл полностью теряется. Субъектом познания, таким образом, являются не отдельные люди, а система отношений между ними – общество.
Вместе с тем, развитие и углубление языков неизбежно сопровождается умножением апорий. Например, квантовые физики воспринимают материю совсем в иных понятиях, нежели астрофизики, а трактовка палеонтологами жизни отличается от оной у молекулярных биологов. В этом нет никакой проблемы, пока им удается интеллигентно договариваться о границах собственных юрисдикций, понимая, что они делают общее дело. Единство познающего субъекта поддерживается несмотря на дробление его внутри себя. В социальных и гуманитарных науках к подобным джентльменским соглашениям удается прийти куда реже. Борьба между конкурирующими группами исследователей приводит здесь не к миру, а к чьему-нибудь дисциплинарному империализму или целым континентам провалившихся дисциплин. Субъект рассыпается на части.
Выходом из этого естественного состояния для обществоведов и гуманитариев является реабилитация старомодной цели: несмотря ни на что, разобраться в хаосе самых разных языков и выработке правил разумной коммуникации между собой. Это одновременно требует и понимания смысла сказанного друг другу, и сопротивления господствующим в обществе группам, стремящихся присвоить науку в своих целях, и совершенствования методологического инструментария через математизацию. Более конкретных способов, как это должно достигаться, у меня пока нет. Но как что-то появится – обязательно дам вам знать.
👍28
Больше никогда
Коллеги оперативно сделали перевод нашумевшего текста Хабермаса о выборе Германией позиции в нынешней войне. Все, кто интересовался в комментариях, могут познакомиться с его аргументацией в первоисточнике, а не в моем пересказе пересказов. Большое спасибо Дарье Пыльной и Анне Винкельман!
Не лишним будет вспомнить, что философ и социолог родился в семье члена НСДАП и в конце войны успел послужить в тыловых частях немецких ПВО. Как говорится, деды воевали. Недоброжелателям не нужно даже стараться, чтобы состряпать очередной желтый материал про прошлое идеологов европейской интеграции. Правда же, впрочем, заключается в том, что, познакомившись в университете с материалами Нюрнбергского процесса, Хабермас ужаснулся той социальной системой, ценности и нормы которой разделял в юности. Рациональное объяснение произошедших катастроф и предотвращение новых стало для него главной интеллектуальной задачей на многие годы.
К недоумению молодого студента, большинство его учителей либо вовсе молчали о произошедшем, либо продолжали сдержанно, но все равно позитивно отзываться о нацистском режиме. Единственным исключением была группа левых евреев, вернувшихся из эмиграции и принявшихся восстанавливать Институт социальных исследований во Франкфурте-на-Майне. К одному из них, Теодору Адорно, Хабермас в какой-то момент попал в ассистенты.
Лично меня в этот день очень вдохновляет биография юноши, который решил, что вместо подтаскивания снарядов куда лучше будет потратить жизнь на разработку социологической теории незавершенной модернизации. Значит, будут и другие, как он.
Коллеги оперативно сделали перевод нашумевшего текста Хабермаса о выборе Германией позиции в нынешней войне. Все, кто интересовался в комментариях, могут познакомиться с его аргументацией в первоисточнике, а не в моем пересказе пересказов. Большое спасибо Дарье Пыльной и Анне Винкельман!
Не лишним будет вспомнить, что философ и социолог родился в семье члена НСДАП и в конце войны успел послужить в тыловых частях немецких ПВО. Как говорится, деды воевали. Недоброжелателям не нужно даже стараться, чтобы состряпать очередной желтый материал про прошлое идеологов европейской интеграции. Правда же, впрочем, заключается в том, что, познакомившись в университете с материалами Нюрнбергского процесса, Хабермас ужаснулся той социальной системой, ценности и нормы которой разделял в юности. Рациональное объяснение произошедших катастроф и предотвращение новых стало для него главной интеллектуальной задачей на многие годы.
К недоумению молодого студента, большинство его учителей либо вовсе молчали о произошедшем, либо продолжали сдержанно, но все равно позитивно отзываться о нацистском режиме. Единственным исключением была группа левых евреев, вернувшихся из эмиграции и принявшихся восстанавливать Институт социальных исследований во Франкфурте-на-Майне. К одному из них, Теодору Адорно, Хабермас в какой-то момент попал в ассистенты.
Лично меня в этот день очень вдохновляет биография юноши, который решил, что вместо подтаскивания снарядов куда лучше будет потратить жизнь на разработку социологической теории незавершенной модернизации. Значит, будут и другие, как он.
👍61👎1
Единственный способ стать умнее
Наиболее грандиозные противостояния в спорте случаются, когда соперники не просто обладают собственными оригинальными стилями игры, но и постоянно заимствуют фишки из арсенала друг друга. Хардкорные фанаты в таких случаях жалуются на потерю аутентичности, но великие на то и великие, чтобы понимать, как именно надо выигрывать трофеи. Леброн в Кливленде стал окружать себя трехочковыми шутерами для растягивания обороны противника, а «Голден Стэйт Уорриорз» ответили ему подписанием топового легкого форварда, чтобы в случае чего катать изоляции. Гвардиола потратил тысячи часов на обучение своих команд контрпрессингу, в то время как Клопп начал часто выпускать легкие тройки полузащитников для более уверенного контроля мяча.
Среди интеллектуальных споров между гуманитариями запоминающихся противостояний тоже хоть отбавляй, но ничто, возможно, не может так фундаментально потрясти социологическое воображение, как дебаты Никласа Лумана и Юргена Хабермаса. Стартовые позиции обоих героев на послевоенных развалинах некогда великих немецких наук о духе были радикально противоположными. Луман наследовал консервативной ветви социологии Гелена и Шельски, одержимой поиском источников социального порядка после индустриальной революции. Хабермас же вслед за своими учителями Адорно и Хоркхаймером пытался найти способы преодоления инструментализации разума капитализмом и бюрократией.
В 1970-е гг. Луман делает свой первый ход в большой игре, популяризируя и переосмысляя американский структурный функционализм, а Хабермас противостоит ему, пытаясь разбавить марксистское понимание практики феноменологическим. Как будто бы в первом раунде ничья, но ею никто недоволен. По сути, просто повторены и закреплены тезисы учителей. Ведомые желанием перекоммуницировать друг друга, в 1980-е оба решают подправить свои текущие позиции с помощью обновления словарей. Луман начинает перерабатывать Гуссерля в социологическом ключе, чтобы добавить к теории систем теорию наблюдателя. Хабермас в ответ приступает к штудированию Парсонса, чтобы построить на его критике утилитаризма критическую теорию коммуникации.
Конечно, просто подправить не получилось. Получилось родить два чуть ли не самых масштабных социологических проекта в истории. Сторонники олдскула от Лейпцигской и Франкфуртской школ быстро разочаровались в их некогда перспективных учениках, слишком далеко отошедших от оригинальных предпосылок навстречу друг другу. Луман стал скептически относиться к функционалу национального государства, подчеркивая реальность глобального общества. Хабермас же признал, что модернизация содержит потенциал для исправления собственных патологий в себе же самой. Снова ничья? Болели ли вы за одного или за другого – невозможно отрицать, что стремление обоих к научной истине достойно ува.. Ой-ой, стойте! Мне что, теперь надо еще и Лечока, и лысого шарлатана зауважать? Обоих в пердив, и пусть заберут Лумана с собой!
Наиболее грандиозные противостояния в спорте случаются, когда соперники не просто обладают собственными оригинальными стилями игры, но и постоянно заимствуют фишки из арсенала друг друга. Хардкорные фанаты в таких случаях жалуются на потерю аутентичности, но великие на то и великие, чтобы понимать, как именно надо выигрывать трофеи. Леброн в Кливленде стал окружать себя трехочковыми шутерами для растягивания обороны противника, а «Голден Стэйт Уорриорз» ответили ему подписанием топового легкого форварда, чтобы в случае чего катать изоляции. Гвардиола потратил тысячи часов на обучение своих команд контрпрессингу, в то время как Клопп начал часто выпускать легкие тройки полузащитников для более уверенного контроля мяча.
Среди интеллектуальных споров между гуманитариями запоминающихся противостояний тоже хоть отбавляй, но ничто, возможно, не может так фундаментально потрясти социологическое воображение, как дебаты Никласа Лумана и Юргена Хабермаса. Стартовые позиции обоих героев на послевоенных развалинах некогда великих немецких наук о духе были радикально противоположными. Луман наследовал консервативной ветви социологии Гелена и Шельски, одержимой поиском источников социального порядка после индустриальной революции. Хабермас же вслед за своими учителями Адорно и Хоркхаймером пытался найти способы преодоления инструментализации разума капитализмом и бюрократией.
В 1970-е гг. Луман делает свой первый ход в большой игре, популяризируя и переосмысляя американский структурный функционализм, а Хабермас противостоит ему, пытаясь разбавить марксистское понимание практики феноменологическим. Как будто бы в первом раунде ничья, но ею никто недоволен. По сути, просто повторены и закреплены тезисы учителей. Ведомые желанием перекоммуницировать друг друга, в 1980-е оба решают подправить свои текущие позиции с помощью обновления словарей. Луман начинает перерабатывать Гуссерля в социологическом ключе, чтобы добавить к теории систем теорию наблюдателя. Хабермас в ответ приступает к штудированию Парсонса, чтобы построить на его критике утилитаризма критическую теорию коммуникации.
Конечно, просто подправить не получилось. Получилось родить два чуть ли не самых масштабных социологических проекта в истории. Сторонники олдскула от Лейпцигской и Франкфуртской школ быстро разочаровались в их некогда перспективных учениках, слишком далеко отошедших от оригинальных предпосылок навстречу друг другу. Луман стал скептически относиться к функционалу национального государства, подчеркивая реальность глобального общества. Хабермас же признал, что модернизация содержит потенциал для исправления собственных патологий в себе же самой. Снова ничья? Болели ли вы за одного или за другого – невозможно отрицать, что стремление обоих к научной истине достойно ува.. Ой-ой, стойте! Мне что, теперь надо еще и Лечока, и лысого шарлатана зауважать? Обоих в пердив, и пусть заберут Лумана с собой!
👍33
Инструментальная иррациональность
Что объединяет самых разных по идеологическим взглядам комментаторов из России – это безоговорочное доверие рациональности и прагматичности китайского партийного руководства. Мол, КПК – это такой идеальный менеджер капитализма, совершенный мировой игрок. Они могут совершить грязные и аморальные ходы, но глупые – никогда.
Благодаря коллеге Хуан Щю узнал подробно о жесточайших мерах борьбы с пандемией, которые только усугубляются сейчас в Китае. Все изолированы дома. Больные свозятся в полевые госпитали, которые больше походят на концентрационные лагеря. Самое главное, что в итоге все эти меры совершенно неэффективны в борьбе с распространением инфекции. Не говоря о том, что они наносят гигантский вред собственному промышленному производству. Однако, обратная связь не работает, даже внутриэлитная оппозиция боится подать голос. Все рассуждают просто: если контроль не приводит к успеху, значит нужно еще больше контроля.
Думаю, что весь этот нарратив про совершенных игроков – это очень большая идеализация КПК. Клика Си сидит в огромном информационном пузыре, как и любая другая верхушка авторитарного режима. Может оказаться, что институционального склероза там даже больше, чем в свое время в КПСС. Внешняя инструментальная рациональность скрывает айсберг безумия, который таится внутри. Полагаться на то, что китайцы как-то помогут расхлебать украинский кризис очень наивно. Боюсь, как бы они не развязали многочисленные новые в самом скором времени.
Что объединяет самых разных по идеологическим взглядам комментаторов из России – это безоговорочное доверие рациональности и прагматичности китайского партийного руководства. Мол, КПК – это такой идеальный менеджер капитализма, совершенный мировой игрок. Они могут совершить грязные и аморальные ходы, но глупые – никогда.
Благодаря коллеге Хуан Щю узнал подробно о жесточайших мерах борьбы с пандемией, которые только усугубляются сейчас в Китае. Все изолированы дома. Больные свозятся в полевые госпитали, которые больше походят на концентрационные лагеря. Самое главное, что в итоге все эти меры совершенно неэффективны в борьбе с распространением инфекции. Не говоря о том, что они наносят гигантский вред собственному промышленному производству. Однако, обратная связь не работает, даже внутриэлитная оппозиция боится подать голос. Все рассуждают просто: если контроль не приводит к успеху, значит нужно еще больше контроля.
Думаю, что весь этот нарратив про совершенных игроков – это очень большая идеализация КПК. Клика Си сидит в огромном информационном пузыре, как и любая другая верхушка авторитарного режима. Может оказаться, что институционального склероза там даже больше, чем в свое время в КПСС. Внешняя инструментальная рациональность скрывает айсберг безумия, который таится внутри. Полагаться на то, что китайцы как-то помогут расхлебать украинский кризис очень наивно. Боюсь, как бы они не развязали многочисленные новые в самом скором времени.
👍39
Видимо, я одна из тех жертв глобализма, для которых существует только один теоретический дискурс – англосаксонский. Даже после того, как мне удалось вкурить европейских гранд-теоретиков, остаюсь при мнении, что донести важную мысль можно и без чрезмерной образности или навороченного синтаксиса. Социология – демократическая наука, а чувство собственной избранности можно оставить философам.
👍32
Назад, к социальным сетям!
По календарю совпало, что скоро мне предстоит вести занятия по Латуру и в МАШ, и в ВШЭ. Снова принимаюсь за его тексты до метафизического поворота. Обратил внимание, что почти за год мое внутреннее отношение к нему поменялось от гнева и отрицания до принятия и местами даже восхищения. Признаю, что именно благодаря своей неортодоксальности АСТ здорово провоцирует социологическое воображение. Это все надо изучать и дальше, чтобы продолжать спорить. А спорить есть с чем.
А) Свободное оперирование то инженерными, то военными метафорами начинает пробуксовывать в описании отраслей науки, где велика конституирующая роль языка. Например, математики, которая с трудом вписывается в модель циркулирующей референтности. (Молчу еще, что кулстори про войну микробов на фоне настоящей войны превращаются в кринж.) В общем, фокус на материальности – это замечательно, но это грозит по-тихому инструментализировать понимание любых социальных взаимодействий.
Б) Агрессивный номинализм АСТ открыто запрещает постулировать макросущности, которые возникают из отдельных взаимодействий, но потом живут своей собственной жизнью и дают агентам ощутимый отпор. Да-да, конечно, речь идет про социальные структуры. Можно, конечно, продолжать настаивать на радикальной позиции, что на самом деле не существует ни государства, ни капитализма, ни панк-рока, ни движения методологов, но весь мой опыт жизни в этой стране заставляет принять их существование хотя бы в рамках продуктивных гипотез.
В) Так получилось, что на пересечении А и Б находятся лично для меня наиболее интересные социальные феномены – дисциплины и школы наук о человеке. Латурианская оптика в SSSH достаточно распространена и зачастую добивается результатов (взять хотя бы блестящие работы Моники Краузе), однако она никогда не сможет достигнуть такого же уровня гегемонии, как это произошло в STS. Причина этого хорошо раскрыта в старом анекдоте, согласно которому математику для работы необходимы бумага, карандаш и ластик, а философу – только бумага и карандаш. Словом, иронично, что хуже всего членам интеллектуального движения АСТ удаются описания самих себя.
По календарю совпало, что скоро мне предстоит вести занятия по Латуру и в МАШ, и в ВШЭ. Снова принимаюсь за его тексты до метафизического поворота. Обратил внимание, что почти за год мое внутреннее отношение к нему поменялось от гнева и отрицания до принятия и местами даже восхищения. Признаю, что именно благодаря своей неортодоксальности АСТ здорово провоцирует социологическое воображение. Это все надо изучать и дальше, чтобы продолжать спорить. А спорить есть с чем.
А) Свободное оперирование то инженерными, то военными метафорами начинает пробуксовывать в описании отраслей науки, где велика конституирующая роль языка. Например, математики, которая с трудом вписывается в модель циркулирующей референтности. (Молчу еще, что кулстори про войну микробов на фоне настоящей войны превращаются в кринж.) В общем, фокус на материальности – это замечательно, но это грозит по-тихому инструментализировать понимание любых социальных взаимодействий.
Б) Агрессивный номинализм АСТ открыто запрещает постулировать макросущности, которые возникают из отдельных взаимодействий, но потом живут своей собственной жизнью и дают агентам ощутимый отпор. Да-да, конечно, речь идет про социальные структуры. Можно, конечно, продолжать настаивать на радикальной позиции, что на самом деле не существует ни государства, ни капитализма, ни панк-рока, ни движения методологов, но весь мой опыт жизни в этой стране заставляет принять их существование хотя бы в рамках продуктивных гипотез.
В) Так получилось, что на пересечении А и Б находятся лично для меня наиболее интересные социальные феномены – дисциплины и школы наук о человеке. Латурианская оптика в SSSH достаточно распространена и зачастую добивается результатов (взять хотя бы блестящие работы Моники Краузе), однако она никогда не сможет достигнуть такого же уровня гегемонии, как это произошло в STS. Причина этого хорошо раскрыта в старом анекдоте, согласно которому математику для работы необходимы бумага, карандаш и ластик, а философу – только бумага и карандаш. Словом, иронично, что хуже всего членам интеллектуального движения АСТ удаются описания самих себя.
👍20
Университет без профессоров – 2022
Внимание всем, кто хотел бы поступить в магистратуру факультета социологии Европейского университета! С 16 по 18 июня пройдет очередная летняя школа для будущих абитуриентов. Запланированы лекции, мастер-классы, но самое главное – обсуждение ваших потенциальных исследовательских проектов. По традиции, мы рады поработать с людьми разных бэкграундов, не обязательно с социологическим дипломом. Тем, кто уже нашел свой проект мечты, подскажем, как его допилить. Неопределившимся – поможем придумать тот, который непременно захочется реализовать.
В этом году я тоже буду участвовать в роли одного из… кхм… наставников. С радостью обсужу с вами подходы в социологии науки на официальной части и итоги сезона в НБА после нее. Если у вас есть вопросы по составлению заявки или, может, вам нужен маленький академическийпинок под жепу коучинг, не стесняйтесь писать мне в личку. Я постараюсь ответить сам или перенаправлю кому-то из коллег.
Обратите внимание, что участие совершенно бесплатно, а для лучших заявок предусмотрены еще и тревел-гранты. Форма заявки лайтовая, но не откладывайте в долгий ящик, так как дедлайн уже 31 мая. До встречи!
Внимание всем, кто хотел бы поступить в магистратуру факультета социологии Европейского университета! С 16 по 18 июня пройдет очередная летняя школа для будущих абитуриентов. Запланированы лекции, мастер-классы, но самое главное – обсуждение ваших потенциальных исследовательских проектов. По традиции, мы рады поработать с людьми разных бэкграундов, не обязательно с социологическим дипломом. Тем, кто уже нашел свой проект мечты, подскажем, как его допилить. Неопределившимся – поможем придумать тот, который непременно захочется реализовать.
В этом году я тоже буду участвовать в роли одного из… кхм… наставников. С радостью обсужу с вами подходы в социологии науки на официальной части и итоги сезона в НБА после нее. Если у вас есть вопросы по составлению заявки или, может, вам нужен маленький академический
Обратите внимание, что участие совершенно бесплатно, а для лучших заявок предусмотрены еще и тревел-гранты. Форма заявки лайтовая, но не откладывайте в долгий ящик, так как дедлайн уже 31 мая. До встречи!
👍33
Менять нужно всю систему
Читаю «Рождение машин. Неизвестная история кибернетики» Томаса Рида. Российская локализация подзаголовка в стиле скандального расследования канала РЕН ТВ не должна обманывать – это добротное академическое исследование, хотя и написанное приятным и доступным языком. Любители интеллектуальной истории XX века должны остаться довольными. Стержень повествования – процесс просачивания кибернетических идей из узкого круга математиков и инженеров во все более и более широкие пласты популярной культуры. Если сначала с помощью управления информацией предполагалось решить проблемы американского ядерного щита или плановых экономик социалистических стран, то потом им заинтересовались психиатры, писатели, хиппи, хакеры. Технократы или анархисты – все видели в футуристической науке реализацию своих фантазий и утопий.
Отсюда небольшое разочарование. В череде портретов деятелей культуры, вдохновлявшихся кибернетикой, есть, кажется, все, кроме гуманитарных и социальных ученых. Единственными значимыми исключениями являются фигуры Грегори Бейтсона и Донны Харауэй, которым посвящены довольно короткие, но ярко написанные фрагменты. Рид как будто решил объединить свои профессиональные интересы военного историка с бунтарскими хобби своей юности, а все, что было посередине, упустил. Впрочем, не буду жаловаться. Специальных исследований про применение кибернетики к исследованию общества в последнее время хватает. Я уже писал как-то о работе Рона Клайна, а то была только одна статья из целого тематического номера.
За перелистыванием страниц книги меня посетило два риторических вопроса. Во-первых, не является ли рутинизация кибернетического словаря в таких разных дискурсах не успехом, а огромным поражением всех ее сторонников? Да, куча жаргонных словечек ушли в народ, но кому сейчас реально интересны все эти проекты полувековой давности? Во-вторых, как так получилось, что кибернетика поразительно разошлась с другим довольно близким по пафосу послевоенным интеллектуальным движением – структурализмом? Сыграли ли здесь роль барьеры между англосаксонской и континентальной научными культурами, или что? Из крупных интеллектуалов, которые как-то пытались примирить интуиции обоих течений, мне вспоминается разве что только наш Юрий Лотман.
Читаю «Рождение машин. Неизвестная история кибернетики» Томаса Рида. Российская локализация подзаголовка в стиле скандального расследования канала РЕН ТВ не должна обманывать – это добротное академическое исследование, хотя и написанное приятным и доступным языком. Любители интеллектуальной истории XX века должны остаться довольными. Стержень повествования – процесс просачивания кибернетических идей из узкого круга математиков и инженеров во все более и более широкие пласты популярной культуры. Если сначала с помощью управления информацией предполагалось решить проблемы американского ядерного щита или плановых экономик социалистических стран, то потом им заинтересовались психиатры, писатели, хиппи, хакеры. Технократы или анархисты – все видели в футуристической науке реализацию своих фантазий и утопий.
Отсюда небольшое разочарование. В череде портретов деятелей культуры, вдохновлявшихся кибернетикой, есть, кажется, все, кроме гуманитарных и социальных ученых. Единственными значимыми исключениями являются фигуры Грегори Бейтсона и Донны Харауэй, которым посвящены довольно короткие, но ярко написанные фрагменты. Рид как будто решил объединить свои профессиональные интересы военного историка с бунтарскими хобби своей юности, а все, что было посередине, упустил. Впрочем, не буду жаловаться. Специальных исследований про применение кибернетики к исследованию общества в последнее время хватает. Я уже писал как-то о работе Рона Клайна, а то была только одна статья из целого тематического номера.
За перелистыванием страниц книги меня посетило два риторических вопроса. Во-первых, не является ли рутинизация кибернетического словаря в таких разных дискурсах не успехом, а огромным поражением всех ее сторонников? Да, куча жаргонных словечек ушли в народ, но кому сейчас реально интересны все эти проекты полувековой давности? Во-вторых, как так получилось, что кибернетика поразительно разошлась с другим довольно близким по пафосу послевоенным интеллектуальным движением – структурализмом? Сыграли ли здесь роль барьеры между англосаксонской и континентальной научными культурами, или что? Из крупных интеллектуалов, которые как-то пытались примирить интуиции обоих течений, мне вспоминается разве что только наш Юрий Лотман.
👍20
Безопасные поколения / опасные классы
В публичном дискурсе хорошо прижилась идея о поколениях как о главных социальных стратах российского общества, формулирующих собственные политические запросы. Мол, молодые подключены к интернету и топят за глобальный мир. Старики смотрят телевизор и ностальгируют по советскому мороженому. Болото же посередине – это поколение-сэндвич, которое избегает крайностей и тех, и других, поэтому не лезет в политику, а усердно работает ради отдыха в Крыму. В целом схема вполне рабочая, только на самом деле несет в себе не столько поколенческий принцип стратификации, придуманный Маннгеймом, сколько то, что Вебер называл «Stand» – страту, выделяющуюся единым культурным потреблением.
Что меня все равно не особо устраивает в подобных рассуждениях, так это недооценка здесь другой латентной переменной – класса. Ведь каждую из перечисленных возрастных групп объединяет также и источник дохода. Молодежь – это, как правило, прекарии, пытающиеся сочетать учебу с работой и тратящие значительные средства еще на съем или ипотеку. Ядро бумеров – это пролетарии старого фордисткого формата с долговременными контрактами и социальным пакетом, которые еще уцелели на государственных и окологосударственных предприятиях. Соответственно, старики – это те, кто живет на пенсию, но также часто обладает небольшой недвижимостью типа квартиры в брежневке или дачи в пригороде.
Я не ставлю цели убедить вас, что молодежь – самая обездоленная группа. (Для меня очевидно, что все три так или иначе угнетаемы госкорпоративным истэблишментом через разные механизмы.) Моя мысль – что эту текучую социальную массу можно по-разному разделять и властвовать над ней. Нынешним российским режимом, например, сделана долгосрочная ставка на имитацию нерушимого союза между пролетариями и пенсионерами. В недалеких же от нас армянских протестах оппозиционным политтехнологам удалось собрать на первый взгляд невероятную коалицию пенсионеров и прекариев. Классовые линии тут, конечно, тоже убираются на второй план, и также выпячивается геополитика. Если одни выходят против Пашиняна потому, что этот слабак не может как следует вломить Азербайджану, то другие – потому, что он недостаточно интегрируется в Европу (спасибо нашему спецкору в Ереване Юрию Шубину за это наблюдение).
Конечно, можно помечтать о том, что все три класса перестанут вестись на разводки элит и начнут совместно строить подлинно народное движение. Но это действительно пока разве что на помечтать. Что более практично – так это то, что не стоит придавать слишком большое внимание якобы естественной и очевидной борьбе дряхлости (мудрости) с юностью (глупостью), как и любым другим схемам подобного рода. Не стоит переоценивать и классовую схему. Однако она, как минимум, помогает нащупать более демократичные способы конструирования общей повестки в пику политтехнологическим.
В публичном дискурсе хорошо прижилась идея о поколениях как о главных социальных стратах российского общества, формулирующих собственные политические запросы. Мол, молодые подключены к интернету и топят за глобальный мир. Старики смотрят телевизор и ностальгируют по советскому мороженому. Болото же посередине – это поколение-сэндвич, которое избегает крайностей и тех, и других, поэтому не лезет в политику, а усердно работает ради отдыха в Крыму. В целом схема вполне рабочая, только на самом деле несет в себе не столько поколенческий принцип стратификации, придуманный Маннгеймом, сколько то, что Вебер называл «Stand» – страту, выделяющуюся единым культурным потреблением.
Что меня все равно не особо устраивает в подобных рассуждениях, так это недооценка здесь другой латентной переменной – класса. Ведь каждую из перечисленных возрастных групп объединяет также и источник дохода. Молодежь – это, как правило, прекарии, пытающиеся сочетать учебу с работой и тратящие значительные средства еще на съем или ипотеку. Ядро бумеров – это пролетарии старого фордисткого формата с долговременными контрактами и социальным пакетом, которые еще уцелели на государственных и окологосударственных предприятиях. Соответственно, старики – это те, кто живет на пенсию, но также часто обладает небольшой недвижимостью типа квартиры в брежневке или дачи в пригороде.
Я не ставлю цели убедить вас, что молодежь – самая обездоленная группа. (Для меня очевидно, что все три так или иначе угнетаемы госкорпоративным истэблишментом через разные механизмы.) Моя мысль – что эту текучую социальную массу можно по-разному разделять и властвовать над ней. Нынешним российским режимом, например, сделана долгосрочная ставка на имитацию нерушимого союза между пролетариями и пенсионерами. В недалеких же от нас армянских протестах оппозиционным политтехнологам удалось собрать на первый взгляд невероятную коалицию пенсионеров и прекариев. Классовые линии тут, конечно, тоже убираются на второй план, и также выпячивается геополитика. Если одни выходят против Пашиняна потому, что этот слабак не может как следует вломить Азербайджану, то другие – потому, что он недостаточно интегрируется в Европу (спасибо нашему спецкору в Ереване Юрию Шубину за это наблюдение).
Конечно, можно помечтать о том, что все три класса перестанут вестись на разводки элит и начнут совместно строить подлинно народное движение. Но это действительно пока разве что на помечтать. Что более практично – так это то, что не стоит придавать слишком большое внимание якобы естественной и очевидной борьбе дряхлости (мудрости) с юностью (глупостью), как и любым другим схемам подобного рода. Не стоит переоценивать и классовую схему. Однако она, как минимум, помогает нащупать более демократичные способы конструирования общей повестки в пику политтехнологическим.
👍46
Эпистемология неолиберализма
Мартин Бедделим в своей статье для Journal of the History of Ideas прослеживает формирование взглядов на познание интеллектуалов общества «Мон Пелерин» Фридриха фон Хайека, Майкла Поланьи и Карла Поппера к публичным дебатам об устройстве британской науки в 1930–1940-х гг. Наиболее активной силой в этих дебатах было движение SRS (Social Relation of Science), в которое входили ученые с левыми взглядами, ратовавшие за масштабное государственное планирование научных исследований. Его мозгом являлся Джозеф Нидэм – эмбриолог и историк технологий, который также помог открыть труды советского философа Бориса Гессена для европейской публики.
Бедделим отмечает, что вся большая тройка эмигрантов из Австро-Венгрии была согласна с посылками участников SRS о том, что предпосылкой получения научной истины является правильная организация работы ученых. Поддерживали они и то, что ценность науки состоит в практической пользе хозяйству и обществу. Однако там, где их оппоненты видели в науке коллективный труд, участники «Мон Пелерина» представляли ее как конкуренцию идей на свободном рынке. Там, где одни считали, что научные идеи постепенно материализуются и становятся достоянием всего общества через их применение в производстве, другие – что получение знания подобно ремеслу, а потому неизбежно привязано к своему индивидуальному носителю.
Несмотря на то, что именно в этой полемике, возможно, впервые выкристаллизовался тезис о социальном конструировании научного знания, она оказала лишь косвенное влияния на куда более позднее формирование STS. Однако ее более широкие последствия не стоит недооценивать. Именно оттуда можно отсчитывать распространенный среди англо-американских консерваторов скепсис по отношению к государственному финансированию массовой университетской науки, а также продвижение вместо нее модели небольших аналитических центров, живущих на частные гранты и пожертвования.
Пожалуй, главный поинт Бедделима заключается в том, что критика сегодняшних неолиберальных догм об управлении наукой не может быть действенной, если не предлагает серьезный разбор взглядов о создании и распространении знания в обществе, предложенных мон-пелеринцами. На вопрос об альтернативных способах организации познания не может быть дан только политико-экономический ответ. Куда больше необходим социально-эпистемологический.
Мартин Бедделим в своей статье для Journal of the History of Ideas прослеживает формирование взглядов на познание интеллектуалов общества «Мон Пелерин» Фридриха фон Хайека, Майкла Поланьи и Карла Поппера к публичным дебатам об устройстве британской науки в 1930–1940-х гг. Наиболее активной силой в этих дебатах было движение SRS (Social Relation of Science), в которое входили ученые с левыми взглядами, ратовавшие за масштабное государственное планирование научных исследований. Его мозгом являлся Джозеф Нидэм – эмбриолог и историк технологий, который также помог открыть труды советского философа Бориса Гессена для европейской публики.
Бедделим отмечает, что вся большая тройка эмигрантов из Австро-Венгрии была согласна с посылками участников SRS о том, что предпосылкой получения научной истины является правильная организация работы ученых. Поддерживали они и то, что ценность науки состоит в практической пользе хозяйству и обществу. Однако там, где их оппоненты видели в науке коллективный труд, участники «Мон Пелерина» представляли ее как конкуренцию идей на свободном рынке. Там, где одни считали, что научные идеи постепенно материализуются и становятся достоянием всего общества через их применение в производстве, другие – что получение знания подобно ремеслу, а потому неизбежно привязано к своему индивидуальному носителю.
Несмотря на то, что именно в этой полемике, возможно, впервые выкристаллизовался тезис о социальном конструировании научного знания, она оказала лишь косвенное влияния на куда более позднее формирование STS. Однако ее более широкие последствия не стоит недооценивать. Именно оттуда можно отсчитывать распространенный среди англо-американских консерваторов скепсис по отношению к государственному финансированию массовой университетской науки, а также продвижение вместо нее модели небольших аналитических центров, живущих на частные гранты и пожертвования.
Пожалуй, главный поинт Бедделима заключается в том, что критика сегодняшних неолиберальных догм об управлении наукой не может быть действенной, если не предлагает серьезный разбор взглядов о создании и распространении знания в обществе, предложенных мон-пелеринцами. На вопрос об альтернативных способах организации познания не может быть дан только политико-экономический ответ. Куда больше необходим социально-эпистемологический.
👍18