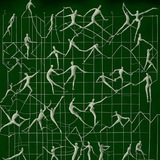Посмертная слава
Оказалось, что в СССР 1970-х гг. был необычайный интерес к работам Франца Фанона. О нем вышли как минимум две большие монографии, не считая множества статей и глав в различных изданиях. Это внимание исходило не только от молодых специалистов по зарубежной мысли, таких как Алексеева и Гордон, но и от востоковедов высокого ранга, таких как Ульяновский, Ким и Брутенец. При этом ни одну из основных работ Фанона перевести так и не решились.
Причины такого всплеска мне пока совершенно непонятны. Был ли это прямой заказ партии, которая после неудач 1960-х гг. снова начала активно поддерживать социалистические режимы в Африке? Или это какие-то духовные метания интеллигенции, ищущей экзистенциальные смыслы посреди застоя? Может, что-то третье? У вас есть идеи?
Необходимо добавить, что сам Фанон приезжал в СССР один раз в 1961 г. Но не с громким официальным визитом, которого не раз удостаивался тот же Уильям Дюбуа, а довольно приватно. Целью поездки было лечение от лейкемии. Считается, что довольно большие куски своего последнего труда «Проклятие заклейменных» он написал как раз в советской больнице. Интересно было бы узнать, встречался ли он все-таки с кем-то из советских академиков в ходе своей поездки.
Оказалось, что в СССР 1970-х гг. был необычайный интерес к работам Франца Фанона. О нем вышли как минимум две большие монографии, не считая множества статей и глав в различных изданиях. Это внимание исходило не только от молодых специалистов по зарубежной мысли, таких как Алексеева и Гордон, но и от востоковедов высокого ранга, таких как Ульяновский, Ким и Брутенец. При этом ни одну из основных работ Фанона перевести так и не решились.
Причины такого всплеска мне пока совершенно непонятны. Был ли это прямой заказ партии, которая после неудач 1960-х гг. снова начала активно поддерживать социалистические режимы в Африке? Или это какие-то духовные метания интеллигенции, ищущей экзистенциальные смыслы посреди застоя? Может, что-то третье? У вас есть идеи?
Необходимо добавить, что сам Фанон приезжал в СССР один раз в 1961 г. Но не с громким официальным визитом, которого не раз удостаивался тот же Уильям Дюбуа, а довольно приватно. Целью поездки было лечение от лейкемии. Считается, что довольно большие куски своего последнего труда «Проклятие заклейменных» он написал как раз в советской больнице. Интересно было бы узнать, встречался ли он все-таки с кем-то из советских академиков в ходе своей поездки.
👍46✍12
Дивизии Папы Римского
Одним из самых больших персональных открытий за последний семестр стала огромная роль Католической церкви в Холодной войне. Политически это влияние проявилось в институционализации христианско-демократических партий, распространении дискурса о правах человека среди международных организаций и в раскачивании антисоветских протестов в Польше и Венгрии.
Кто-то может сказать, что это американский капитализм в своей поздней неолиберальной форме победил советский государственный социализм, но я бы сказал, что без мощной идеологической и социальной поддержки Церкви этого бы попросту никогда не произошло. Массовая публика в Европе, возможно, просто осталась бы безразличной к борьбе двух сверхдержав, если бы вообще не примкнула к СССР из прагматических соображений. Именно страх перед насаживаемым сверху атеизмом плюс альтернативная социальная программа переманили из лагеря левых партий многих избирателей в swing states типа Италии или Испании. В общем, зря Сталин смеялся над Ватиканом.
Что еще более важно в этом сюжете для меня, так это то, как он помогает увидеть интеллектуальные ограничения послевоенной социологической теории, особенно во Франции. Общество как общее смысловое пространство стало тогда таким же влиятельным тропом, как и общество как система иерархий. Это произошло во многом из-за распространения феноменологии, вдохновленной христианскими доктринами. Она конкурировала с западным марксизмом, но и вступала с ним в синтез. Например, в работах де Бовуар, Мерло-Понти, де Серто. Ну и Бурдье, разумеется.
Сейчас я думаю, имеет ли вообще смысл держаться за эти теории, если их содержание родилось именно в крайне специфическом европейском контексте борьбы между двумя коллективистскими движениями: рабочим и христианским? Легендарный Сюткин бы сказал, что за этой схваткой скрывается универсалистская логика истории. Однако я не так в этом уверен. Как будто мы должны думать этими категориями, просто потому что других в нашем распоряжении нет. Как будто нам нужна Холодная война в наших головах, потому что без нее нам не будет никакого жизненного мира.
Одним из самых больших персональных открытий за последний семестр стала огромная роль Католической церкви в Холодной войне. Политически это влияние проявилось в институционализации христианско-демократических партий, распространении дискурса о правах человека среди международных организаций и в раскачивании антисоветских протестов в Польше и Венгрии.
Кто-то может сказать, что это американский капитализм в своей поздней неолиберальной форме победил советский государственный социализм, но я бы сказал, что без мощной идеологической и социальной поддержки Церкви этого бы попросту никогда не произошло. Массовая публика в Европе, возможно, просто осталась бы безразличной к борьбе двух сверхдержав, если бы вообще не примкнула к СССР из прагматических соображений. Именно страх перед насаживаемым сверху атеизмом плюс альтернативная социальная программа переманили из лагеря левых партий многих избирателей в swing states типа Италии или Испании. В общем, зря Сталин смеялся над Ватиканом.
Что еще более важно в этом сюжете для меня, так это то, как он помогает увидеть интеллектуальные ограничения послевоенной социологической теории, особенно во Франции. Общество как общее смысловое пространство стало тогда таким же влиятельным тропом, как и общество как система иерархий. Это произошло во многом из-за распространения феноменологии, вдохновленной христианскими доктринами. Она конкурировала с западным марксизмом, но и вступала с ним в синтез. Например, в работах де Бовуар, Мерло-Понти, де Серто. Ну и Бурдье, разумеется.
Сейчас я думаю, имеет ли вообще смысл держаться за эти теории, если их содержание родилось именно в крайне специфическом европейском контексте борьбы между двумя коллективистскими движениями: рабочим и христианским? Легендарный Сюткин бы сказал, что за этой схваткой скрывается универсалистская логика истории. Однако я не так в этом уверен. Как будто мы должны думать этими категориями, просто потому что других в нашем распоряжении нет. Как будто нам нужна Холодная война в наших головах, потому что без нее нам не будет никакого жизненного мира.
👍45👎5🙏2🤝1
Книга года
Давайте сделаем традицию из присуждения звания книги года этим каналом. Главный критерий: она необязательно должна быть издана в уходящем году, но постоянно быть на моем рабочем столе в течение последних двенадцати месяцев и заставлять обращаться к себе снова и снова. В этом году такой книгой, несомненно, стала «Холодные войны: Азия, Ближний Восток, Европа» швейцарского историка Лоренца Люти.
Отношения с книгой Люти у меня сложились совсем не такими, как с книгой Краузе, которую я отмечал в прошлый раз. «Холодные войны» – это не относительно короткое теоретическое эссе, которое хочется перечитывать снова, а монструозная энциклопедия фактов про Холодную войну. Осилить ее за один раз (равно как и за два или три) практически невозможно. Во введении автор даже сам предлагает читать ее с той главы, которая более всего интересна читателю. Вместе с тем, какие бы новые события и процессы – от вовлечения Китая в Африку до влияния Католической церкви на страны соцлагеря – я не хотел бы прояснить для себя, я постоянно обращался к этому кирпичу и всегда был удовлетворен емкой базой.
Книга безнадежно проиграла бы Википедии, если бы претендовала только на энциклопедизм. Разумеется, она нечто большее. Как известно, историки большую часть карьеры собирают отдельные факты, но ближе к старости начинают синтезировать. Вот «Холодные войны» и предъявляют новую точку зрения на известные факты от историка-ветерана. Общий тезис Люти состоит в том, что Холодная война – это не единый процесс конфронтации двух сверхдержав, а система многих региональных конфликтов, отличавшихся по интенсивности и длительности.
Кроме сосредоточенности на биполярном мире Люти не нравится в современной историографии чрезмерное заимствование идей из реалистской школы международных отношений. Для автора очень мало сюжетов можно объяснить рациональностью государственных лидеров, которые сдерживают друг друга. Вместо этого центральное место в повествовании занимают партии и общественные движения, которые для него априори коллективны и идеологически заряжены. И это касается не только соцлагеря, но и его противников. Скажем, Рейган для Люти не более рационален и не менее коллективен, чем Ким Ир Сен.
Хотя Люти мало касается интеллектуалов и экспертов как таковых, его акцент на коллективных идеологиях заставляет его описывать обстоятельства возникновения и распространения массовых идей. Таким образом, книга вполне подойдет тем, кто хочет почитать что-то по интеллектуальной истории, а не только политической. Короче говоря, советую, советую, советую.
Давайте сделаем традицию из присуждения звания книги года этим каналом. Главный критерий: она необязательно должна быть издана в уходящем году, но постоянно быть на моем рабочем столе в течение последних двенадцати месяцев и заставлять обращаться к себе снова и снова. В этом году такой книгой, несомненно, стала «Холодные войны: Азия, Ближний Восток, Европа» швейцарского историка Лоренца Люти.
Отношения с книгой Люти у меня сложились совсем не такими, как с книгой Краузе, которую я отмечал в прошлый раз. «Холодные войны» – это не относительно короткое теоретическое эссе, которое хочется перечитывать снова, а монструозная энциклопедия фактов про Холодную войну. Осилить ее за один раз (равно как и за два или три) практически невозможно. Во введении автор даже сам предлагает читать ее с той главы, которая более всего интересна читателю. Вместе с тем, какие бы новые события и процессы – от вовлечения Китая в Африку до влияния Католической церкви на страны соцлагеря – я не хотел бы прояснить для себя, я постоянно обращался к этому кирпичу и всегда был удовлетворен емкой базой.
Книга безнадежно проиграла бы Википедии, если бы претендовала только на энциклопедизм. Разумеется, она нечто большее. Как известно, историки большую часть карьеры собирают отдельные факты, но ближе к старости начинают синтезировать. Вот «Холодные войны» и предъявляют новую точку зрения на известные факты от историка-ветерана. Общий тезис Люти состоит в том, что Холодная война – это не единый процесс конфронтации двух сверхдержав, а система многих региональных конфликтов, отличавшихся по интенсивности и длительности.
Кроме сосредоточенности на биполярном мире Люти не нравится в современной историографии чрезмерное заимствование идей из реалистской школы международных отношений. Для автора очень мало сюжетов можно объяснить рациональностью государственных лидеров, которые сдерживают друг друга. Вместо этого центральное место в повествовании занимают партии и общественные движения, которые для него априори коллективны и идеологически заряжены. И это касается не только соцлагеря, но и его противников. Скажем, Рейган для Люти не более рационален и не менее коллективен, чем Ким Ир Сен.
Хотя Люти мало касается интеллектуалов и экспертов как таковых, его акцент на коллективных идеологиях заставляет его описывать обстоятельства возникновения и распространения массовых идей. Таким образом, книга вполне подойдет тем, кто хочет почитать что-то по интеллектуальной истории, а не только политической. Короче говоря, советую, советую, советую.
👍51✍10👏8
Еще один год «Структуры»
Все вокруг подводят итоги 2024. Пожалуй, тоже присоединюсь к этому челленджу, но напишу не про себя, а про этот канал, которому через несколько дней исполнится четыре года. По моим ощущениям, он стал настоящей сборкой, как выражаются модные теоретики. Сборкой из меня, подписчиков и дружественных каналов.
В январе здесь появилась новая аватарка. В июле прошло голосование за сохранение первоначального названия. В ноябре один из самых верных читателей взял на себя труд вести рубрикатор. За все двенадцать месяцев число подписчиков выросло почти на две тысячи. Не было ни одного непрокомментированного поста. Это если предельно кратко.
Тематически началось перепрофилирование на социологию советского востоковедения. Честно говоря, мне хотелось бы писать как можно больше именно по этой теме, но как новичку приходится пока вникать в общий политический контекст Холодной войны, поэтому надеюсь, что вы простите все эти сдвгшные отступления о Хрущеве, Мао и Нкруме. В новом сезоне надо поставить цель увеличить объем материалов по социологии знания и послевоенной интеллектуальной истории.
Другая важнейшая традиция уже третий год – это проведение на базе канала образовательных курсов. В этом году удалось сделать целых два: один сольный про социальные структуры и один в тандеме с легендарной Лихининой про академическое письмо. Надо признаться, я очень уставал сначала при подготовке, а потом при проверке домашних заданий, но это того стоило на 100%.
Кроме того, я стал писать намного больше про себя и свою жизнь в эмиграции. Наверное, теперь этот канал в том числе и полноценный личный блог. Спасибо вам, что интересуетесь, как там я, поддерживаете и спорите в комментах. Вообще, я страшно рад, что здесь возникло такое разнообразное и вовлеченное сообщество! Такое чувство настоящего дома.
«Структура» вернется в новом году! С наступающими вас праздниками!
Все вокруг подводят итоги 2024. Пожалуй, тоже присоединюсь к этому челленджу, но напишу не про себя, а про этот канал, которому через несколько дней исполнится четыре года. По моим ощущениям, он стал настоящей сборкой, как выражаются модные теоретики. Сборкой из меня, подписчиков и дружественных каналов.
В январе здесь появилась новая аватарка. В июле прошло голосование за сохранение первоначального названия. В ноябре один из самых верных читателей взял на себя труд вести рубрикатор. За все двенадцать месяцев число подписчиков выросло почти на две тысячи. Не было ни одного непрокомментированного поста. Это если предельно кратко.
Тематически началось перепрофилирование на социологию советского востоковедения. Честно говоря, мне хотелось бы писать как можно больше именно по этой теме, но как новичку приходится пока вникать в общий политический контекст Холодной войны, поэтому надеюсь, что вы простите все эти сдвгшные отступления о Хрущеве, Мао и Нкруме. В новом сезоне надо поставить цель увеличить объем материалов по социологии знания и послевоенной интеллектуальной истории.
Другая важнейшая традиция уже третий год – это проведение на базе канала образовательных курсов. В этом году удалось сделать целых два: один сольный про социальные структуры и один в тандеме с легендарной Лихининой про академическое письмо. Надо признаться, я очень уставал сначала при подготовке, а потом при проверке домашних заданий, но это того стоило на 100%.
Кроме того, я стал писать намного больше про себя и свою жизнь в эмиграции. Наверное, теперь этот канал в том числе и полноценный личный блог. Спасибо вам, что интересуетесь, как там я, поддерживаете и спорите в комментах. Вообще, я страшно рад, что здесь возникло такое разнообразное и вовлеченное сообщество! Такое чувство настоящего дома.
«Структура» вернется в новом году! С наступающими вас праздниками!
👍90🤝18👏16👌2🖕2
Функция или форма
С тех пор как я переехал в Залив, у меня появилось новое неожиданное хобби — архитектура. Нельзя сказать, что раньше я был к ней совершенно равнодушен. За время жизни в Санкт-Петербурге я разобрался в том, что такое эркер и псевдоготика. Однако никаких хоть сколько-нибудь систематических знаний у меня в голове не отложилось. Даром, что я дружил с экспертами по архитектуре, которые мне рассказывали много интересного. Например, с коллегами Малышевым и Острогорским.
Перелом начался, пожалуй, с того, что моя мама стала просить меня записывать кружочки о том, где я бываю. Сначала я делал это с неохотой, но потом мне стало нравиться разбираться в устройстве кампуса Беркли, делового центра Окленда и, конечно, невероятно сумбурного, но великолепного Сан-Франциско. Я понял, сколько вокруг интересного, на что я не обращал внимания. Со временем я организовал жене несколько экскурсий по достопримечательностям ближайших районов. Сейчас я просто нахожу на карте интересные пространства и постройки и направляюсь смотреть один. По возможности стараюсь заходить внутрь зданий.
Когда я только здесь оказался, меня очень сильно пугали совершенно чуждые для меня американские городские пространства, но со временем я к ним привыкаю. Наверное, порталом в них стал местный брутализм, которого, как оказалось, в США и особенно у Залива очень много. Например, станция метро Глен-Парк, Оклендский музей Калифорнии, католический собор Успения Богородицы или небоскреб «Трансамерика». Как будто так долго гулял, что заблудился и случайно вернулся в Белград или Ереван. Вот такой, для кого-то мрачный и тяжелый, стиль стал для меня, напротив, триггером добрых воспоминаний о родном постсоциализме.
В архитектуре давно существует старый спор, что в ней главнее: функция или форма? Нужны ли сооружения существовать ради прагматического удовлетворения нужд пользующихся ими людей или приковывать глаз наблюдателя? Окончательного ответа на этот вопрос никто не дал, но это не мешает новым и новым отличительным архитектурным стилям удовлетворять базовые потребности и одновременно привлекать наше внимание. В итоге архитектура остается чем-то отличным и от инженерного дела, и от скульптуры.
Мне кажется, что социологи, которые с момента основания науки сталкиваются с противоречием между объяснением эмпирических феноменов и их глубокой концептуализацией, могут поучиться у архитекторов. Нам ведь тоже важно проплывать по узкому фарватеру, не скатываясь ни в функциональную, но мертвую data science, ни в эстетически прекрасную, но легковесную эссеистику. Я взглянул в последний раз на The Hallidie Building, которое навело меня на эту аналогию между профессиями, и отправился домой писать этот пост. Праздники кончились. Пора за работу.
С тех пор как я переехал в Залив, у меня появилось новое неожиданное хобби — архитектура. Нельзя сказать, что раньше я был к ней совершенно равнодушен. За время жизни в Санкт-Петербурге я разобрался в том, что такое эркер и псевдоготика. Однако никаких хоть сколько-нибудь систематических знаний у меня в голове не отложилось. Даром, что я дружил с экспертами по архитектуре, которые мне рассказывали много интересного. Например, с коллегами Малышевым и Острогорским.
Перелом начался, пожалуй, с того, что моя мама стала просить меня записывать кружочки о том, где я бываю. Сначала я делал это с неохотой, но потом мне стало нравиться разбираться в устройстве кампуса Беркли, делового центра Окленда и, конечно, невероятно сумбурного, но великолепного Сан-Франциско. Я понял, сколько вокруг интересного, на что я не обращал внимания. Со временем я организовал жене несколько экскурсий по достопримечательностям ближайших районов. Сейчас я просто нахожу на карте интересные пространства и постройки и направляюсь смотреть один. По возможности стараюсь заходить внутрь зданий.
Когда я только здесь оказался, меня очень сильно пугали совершенно чуждые для меня американские городские пространства, но со временем я к ним привыкаю. Наверное, порталом в них стал местный брутализм, которого, как оказалось, в США и особенно у Залива очень много. Например, станция метро Глен-Парк, Оклендский музей Калифорнии, католический собор Успения Богородицы или небоскреб «Трансамерика». Как будто так долго гулял, что заблудился и случайно вернулся в Белград или Ереван. Вот такой, для кого-то мрачный и тяжелый, стиль стал для меня, напротив, триггером добрых воспоминаний о родном постсоциализме.
В архитектуре давно существует старый спор, что в ней главнее: функция или форма? Нужны ли сооружения существовать ради прагматического удовлетворения нужд пользующихся ими людей или приковывать глаз наблюдателя? Окончательного ответа на этот вопрос никто не дал, но это не мешает новым и новым отличительным архитектурным стилям удовлетворять базовые потребности и одновременно привлекать наше внимание. В итоге архитектура остается чем-то отличным и от инженерного дела, и от скульптуры.
Мне кажется, что социологи, которые с момента основания науки сталкиваются с противоречием между объяснением эмпирических феноменов и их глубокой концептуализацией, могут поучиться у архитекторов. Нам ведь тоже важно проплывать по узкому фарватеру, не скатываясь ни в функциональную, но мертвую data science, ни в эстетически прекрасную, но легковесную эссеистику. Я взглянул в последний раз на The Hallidie Building, которое навело меня на эту аналогию между профессиями, и отправился домой писать этот пост. Праздники кончились. Пора за работу.
👍59✍8👏3👌1🤝1
Туман полемики
В преддверии нового курса возвращаюсь к тому, на чем мы со слушателями закончили в прошлом году при обсуждении структуралистской социологии. А именно – к восприятию проблем французской теории в англоязычном академическом пространстве. Я открыл для себя важный момент расхождения в формулировке программ социологии знания между Бурдье и Рэндаллом Коллинзом. Оба автора соглашаются, что социология социально-гуманитарного знания – это главный бриллиант в короне социологии. Еще бы, ведь возможность изучения наукой самой себя – это почти гегелевский Das große Finale тысячелетней интеллектуальной работы человечества!
Однако Коллинз, несмотря на свои утопические предложения, вроде разработки социологами настоящего искусственного интеллекта (помните, я писал об этой идее здесь), в других аспектах оказывается гораздо консервативнее Бурдье. Если для француза социология знания является оружием борьбы в современном нам интеллектуальном пространстве, то американец утверждает, что мы не можем объективно исследовать знание новее 1950-х годов, а тем более как-то использовать это в своей практике (если учесть, что он писал свои программные тексты двадцать лет назад, то новее 1970-х). Якобы мы не способны увидеть окончательную кристаллизацию актуальных школ и направлений. Они явятся нам только тогда, когда споры между ними утихнут.
В общем, вместо гегелевского триумфа разума получается какой-то стеснительный попперовский антиисторицизм. Я думаю, что Коллинз, конечно, совершенно непоследователен. В других книгах, таких как «Неочевидная социология», он отделяет свою дисциплину от истории, ставя перед ней задачи объяснения и обобщения. Однако если социологам организаций или микросоциологам он завещает исследовать социальные структуры здесь и сейчас, то социологам знания он предлагает подождать, пока туман полемики между школами рассеется, и только потом анализировать то, что получилось. Тогда чем социология знания принципиально отличается от традиционной истории идей? Какой тогда это бриллиант? И в чьей короне?
Не подумайте, что я считаю тезисы Коллинза и его критику Бурдье чем-то смехотворным и незначительным. Напротив, бурдьевская социология как боевое искусство кажется еще более старомодным реликтом модернистских надежд ушедшего поколения. Кто сейчас всерьез поверит в то, что социолог может достичь объективности через самокритику? Тем не менее, оставляя обсуждение реалистичности программ обоих теоретиков в стороне, я вижу гораздо больше логики у Бурдье. Французский рационализм — он такой.
В преддверии нового курса возвращаюсь к тому, на чем мы со слушателями закончили в прошлом году при обсуждении структуралистской социологии. А именно – к восприятию проблем французской теории в англоязычном академическом пространстве. Я открыл для себя важный момент расхождения в формулировке программ социологии знания между Бурдье и Рэндаллом Коллинзом. Оба автора соглашаются, что социология социально-гуманитарного знания – это главный бриллиант в короне социологии. Еще бы, ведь возможность изучения наукой самой себя – это почти гегелевский Das große Finale тысячелетней интеллектуальной работы человечества!
Однако Коллинз, несмотря на свои утопические предложения, вроде разработки социологами настоящего искусственного интеллекта (помните, я писал об этой идее здесь), в других аспектах оказывается гораздо консервативнее Бурдье. Если для француза социология знания является оружием борьбы в современном нам интеллектуальном пространстве, то американец утверждает, что мы не можем объективно исследовать знание новее 1950-х годов, а тем более как-то использовать это в своей практике (если учесть, что он писал свои программные тексты двадцать лет назад, то новее 1970-х). Якобы мы не способны увидеть окончательную кристаллизацию актуальных школ и направлений. Они явятся нам только тогда, когда споры между ними утихнут.
В общем, вместо гегелевского триумфа разума получается какой-то стеснительный попперовский антиисторицизм. Я думаю, что Коллинз, конечно, совершенно непоследователен. В других книгах, таких как «Неочевидная социология», он отделяет свою дисциплину от истории, ставя перед ней задачи объяснения и обобщения. Однако если социологам организаций или микросоциологам он завещает исследовать социальные структуры здесь и сейчас, то социологам знания он предлагает подождать, пока туман полемики между школами рассеется, и только потом анализировать то, что получилось. Тогда чем социология знания принципиально отличается от традиционной истории идей? Какой тогда это бриллиант? И в чьей короне?
Не подумайте, что я считаю тезисы Коллинза и его критику Бурдье чем-то смехотворным и незначительным. Напротив, бурдьевская социология как боевое искусство кажется еще более старомодным реликтом модернистских надежд ушедшего поколения. Кто сейчас всерьез поверит в то, что социолог может достичь объективности через самокритику? Тем не менее, оставляя обсуждение реалистичности программ обоих теоретиков в стороне, я вижу гораздо больше логики у Бурдье. Французский рационализм — он такой.
👍33💅5👎2👌1
Алжирский период
Одной средиземноморской весенней ночью 1961 года молодой француз инкогнито взобрался на борт военного грузового самолета, вылетавшего из Алжира в Париж. Он знал, что на него готовится покушение. Только что был подавлен неудачный путч генералов, недовольных переговорами французского правительства с борцами за независимость. Хотя верхушка заговорщиков уже была арестована, низовые французские националисты собирались мстить тем, кого они считали предателями и коллаборантами. Да, этим нашим героем из расстрельного списка был не кто иной, как Пьер Бурдье. Вам, наверное, интересно, как он оказался в такой ситуации?
В 1955 году Бурдье как выпускнику престижного философского факультета было предложено пройти офицерскую подготовку, чтобы избежать службы в армии. От этой возможности он отказался, потому что, как и многие молодые студенты, презирал профессиональных военных. Пришлось служить. Его отправили в горячую точку – Алжир. Охранять от партизан авиабазу. Однако хлопотами знакомого полковника родом из соседней деревни рядовой Бурдье в итоге оказался в отделе информации и документации генерала-губернатора. Короче говоря, он стал служить писарем. Кроме отчетов и опросов о состоянии дел в колонии он оказался окружен академической литературой об Алжире, которую с огромным интересом читал в свободное время.
После окончания службы Бурдье отмел варианты трудоустроиться во Франции и решил остаться преподавать в Университете Алжира. Его очень заинтересовала провинция: с одной стороны экзотичная, а с другой – так похожая на его родной горный Беарн. Кроме того, у него появилось много друзей из местной алжирской интеллигенции, с которыми ему удалось находить общий язык намного легче, чем со многими столичными одногруппниками из Высшей нормальной школы.
В университете Бурдье развел кипучую деятельность, обучая студентов эмпирическим исследованиям местного общества, в которых сам был самоучкой. Сначала он называл их этнографией, но потом появился новый модный термин – социология. Бурдье предлагал поднимать спорные темы: принудительное переселение, обезземеливание крестьян и исчезновение этнического меньшинства – кабилов. Все это было очень интересно, но совершенно не проходило военную цензуру. Многое пришлось писать только в стол. Кроме того, Бурдье попал на карандаш к ультраправым, которые не оценили его критику колониальной администрации.
Сначала многим, включая и Бурдье, казалось, что победа в войне за независимость Алжира не имеет реальных шансов на успех. Слишком неравны были силы регулярной армии и партизан. Казалось, что какая-то реформистская и просветительская деятельность поможет делу алжирцев лучше. Однако в столице события развивались куда быстрее, чем на полях сражений герильи. Во французском обществе стала копиться усталость от войны. На Францию стали давить американские союзники. Наконец, путчисты, объявившие своей целью не только сохранение империи, но и свержение республиканского строя, отторгли от себя умеренных консерваторов. Планы молодого французского социолога окончательно обосноваться в провинции были нарушены. Он сначала колебался, но все-таки поддался уговорам друзей секретно улететь из Алжира. Его грело только одно: у него с собой было много рукописей из стола, которые теперь было можно – нет, просто необходимо! – опубликовать.
Одной средиземноморской весенней ночью 1961 года молодой француз инкогнито взобрался на борт военного грузового самолета, вылетавшего из Алжира в Париж. Он знал, что на него готовится покушение. Только что был подавлен неудачный путч генералов, недовольных переговорами французского правительства с борцами за независимость. Хотя верхушка заговорщиков уже была арестована, низовые французские националисты собирались мстить тем, кого они считали предателями и коллаборантами. Да, этим нашим героем из расстрельного списка был не кто иной, как Пьер Бурдье. Вам, наверное, интересно, как он оказался в такой ситуации?
В 1955 году Бурдье как выпускнику престижного философского факультета было предложено пройти офицерскую подготовку, чтобы избежать службы в армии. От этой возможности он отказался, потому что, как и многие молодые студенты, презирал профессиональных военных. Пришлось служить. Его отправили в горячую точку – Алжир. Охранять от партизан авиабазу. Однако хлопотами знакомого полковника родом из соседней деревни рядовой Бурдье в итоге оказался в отделе информации и документации генерала-губернатора. Короче говоря, он стал служить писарем. Кроме отчетов и опросов о состоянии дел в колонии он оказался окружен академической литературой об Алжире, которую с огромным интересом читал в свободное время.
После окончания службы Бурдье отмел варианты трудоустроиться во Франции и решил остаться преподавать в Университете Алжира. Его очень заинтересовала провинция: с одной стороны экзотичная, а с другой – так похожая на его родной горный Беарн. Кроме того, у него появилось много друзей из местной алжирской интеллигенции, с которыми ему удалось находить общий язык намного легче, чем со многими столичными одногруппниками из Высшей нормальной школы.
В университете Бурдье развел кипучую деятельность, обучая студентов эмпирическим исследованиям местного общества, в которых сам был самоучкой. Сначала он называл их этнографией, но потом появился новый модный термин – социология. Бурдье предлагал поднимать спорные темы: принудительное переселение, обезземеливание крестьян и исчезновение этнического меньшинства – кабилов. Все это было очень интересно, но совершенно не проходило военную цензуру. Многое пришлось писать только в стол. Кроме того, Бурдье попал на карандаш к ультраправым, которые не оценили его критику колониальной администрации.
Сначала многим, включая и Бурдье, казалось, что победа в войне за независимость Алжира не имеет реальных шансов на успех. Слишком неравны были силы регулярной армии и партизан. Казалось, что какая-то реформистская и просветительская деятельность поможет делу алжирцев лучше. Однако в столице события развивались куда быстрее, чем на полях сражений герильи. Во французском обществе стала копиться усталость от войны. На Францию стали давить американские союзники. Наконец, путчисты, объявившие своей целью не только сохранение империи, но и свержение республиканского строя, отторгли от себя умеренных консерваторов. Планы молодого французского социолога окончательно обосноваться в провинции были нарушены. Он сначала колебался, но все-таки поддался уговорам друзей секретно улететь из Алжира. Его грело только одно: у него с собой было много рукописей из стола, которые теперь было можно – нет, просто необходимо! – опубликовать.
👍74👏17✍10👌3
Набор на курс о Пьере Бурдье открыт! Желающие забронировать платное место могут писать @theghostagainstthemachine, представившись и рассказав пару слов о себе в качестве знакомства. Участникам конкурса на бюджетные места необходимо кидать свои письма на гугл-форму до 31 января. Жду вас на наших уютных академических беседах!
👍111✍9💅5👏2
После дискотеки
Рождественская дискотека 1960-х годов во французской глубинке. На танцполе зажигают солдаты, вернувшиеся на зимние каникулы студенты, швеи с местной ткацкой фабрики, даже старшеклассницы. Только несколько мужчин около тридцати не танцуют, а стеснительно мнутся и наблюдают за происходящим со стороны. Они одеты по моде прошлого десятилетия и не знают новых танцев, таких как твист и ча-ча-ча. Так и не решившись пригласить никого из присутствующих девушек, они удаляются в паб по соседству.
С этой для кого-то криповой, а для кого-то драматической сцены начинается сборник статей Бурдье о жизни в сельскохозяйственном регионе Франции – Беарне. Приехав как-то раз навестить родных, он подслушал разговор со старожилами, которые между собой отмечают, что в местных деревнях все больше мужчин остаются холостяками навсегда. Бурдье не поленился найти официальную статистику, согласно которой количество женатых мужчин не уменьшилось – оно даже немного подросло за последние годы. Так кто же эти нелепые персоны, которых вся округа наблюдает в углу сельской дискотеки?
Оказалось, что большинство холостяков – это старшие сыновья зажиточных семей, которых с детства готовили унаследовать семейное хозяйство. Полвека назад к такому мужчине выстраивалась бы очередь невест и их родителей, а теперь желающих нет. Дом и надел больше не воспринимаются как богатство. Редкая девушка хочет стать домохозяйкой при мужчине, который во всем подчиняется воле отца. Младшие братья холостяков, уехавшие из родительского дома на заработки в город и познакомившиеся с новой молодежной культурой, теперь куда более удачливы в личной жизни.
Бурдье часто критикуют за то, что он мало писал о гендере вплоть до конца 1990-х годов, когда он запоздало попытался сесть на hype train феминистской критики. В этом есть доля справедливости, но только доля. Наблюдения о трансформации феминности и маскулинности в окружающем Бурдье обществе рассыпаны по его исследованиям, особенно тем, которые посвящены Алжиру и Беарну. Эти работы объединяет то, что он не хотел, да и не мог, выработать перспективу с точки зрения женщин. Взамен он часто рассказывает истории своего рода аналогов современных инцелов, к которым он – прогрессивный городской мужчина – испытывает смесь неприязни и жалости. Получилось ли у него это? Каждый может решить для себя, перечитав его работы того времени.
Рождественская дискотека 1960-х годов во французской глубинке. На танцполе зажигают солдаты, вернувшиеся на зимние каникулы студенты, швеи с местной ткацкой фабрики, даже старшеклассницы. Только несколько мужчин около тридцати не танцуют, а стеснительно мнутся и наблюдают за происходящим со стороны. Они одеты по моде прошлого десятилетия и не знают новых танцев, таких как твист и ча-ча-ча. Так и не решившись пригласить никого из присутствующих девушек, они удаляются в паб по соседству.
С этой для кого-то криповой, а для кого-то драматической сцены начинается сборник статей Бурдье о жизни в сельскохозяйственном регионе Франции – Беарне. Приехав как-то раз навестить родных, он подслушал разговор со старожилами, которые между собой отмечают, что в местных деревнях все больше мужчин остаются холостяками навсегда. Бурдье не поленился найти официальную статистику, согласно которой количество женатых мужчин не уменьшилось – оно даже немного подросло за последние годы. Так кто же эти нелепые персоны, которых вся округа наблюдает в углу сельской дискотеки?
Оказалось, что большинство холостяков – это старшие сыновья зажиточных семей, которых с детства готовили унаследовать семейное хозяйство. Полвека назад к такому мужчине выстраивалась бы очередь невест и их родителей, а теперь желающих нет. Дом и надел больше не воспринимаются как богатство. Редкая девушка хочет стать домохозяйкой при мужчине, который во всем подчиняется воле отца. Младшие братья холостяков, уехавшие из родительского дома на заработки в город и познакомившиеся с новой молодежной культурой, теперь куда более удачливы в личной жизни.
Бурдье часто критикуют за то, что он мало писал о гендере вплоть до конца 1990-х годов, когда он запоздало попытался сесть на hype train феминистской критики. В этом есть доля справедливости, но только доля. Наблюдения о трансформации феминности и маскулинности в окружающем Бурдье обществе рассыпаны по его исследованиям, особенно тем, которые посвящены Алжиру и Беарну. Эти работы объединяет то, что он не хотел, да и не мог, выработать перспективу с точки зрения женщин. Взамен он часто рассказывает истории своего рода аналогов современных инцелов, к которым он – прогрессивный городской мужчина – испытывает смесь неприязни и жалости. Получилось ли у него это? Каждый может решить для себя, перечитав его работы того времени.
👍89
Как как и многие другие проекты, играющие с историческими количественными данными, эта штука супер-залипательна. Среди образовательных лидеров в сфере дипломатии можно распознать не только столицы бывших колониальных империй, но и столицы внеблоковых европейских стран. Также присутствует африканская полупериферия, которая мне до конца не понятна. Кения действительно является очень успешной страной по меркам континента, но почему так много африканских дипломатов учились в Камеруне? Возможно, это связано с совместным в прошлом франко-британским мандатом, который как-то повлиял на тамошнюю образовательную инфраструктуру? Впрочем, ответ может скрываться просто в неполноте данных. По советским университетам пока их вообще нет. Может, стоит написать создателям и предложить свои услуги?
👍28
Forwarded from Nodes and Links
Сетевой музей истории африканской дипломатии
Вчера любители “Горе от ума” праздновали день рождение Александра Грибоедова. Для большинства он ассоциируется с литературой, но в действительности он был незаурядным дипломатом. Если Вы живете в Москве, то можете отправиться в Музей международного этикета и культуры и узнать об истории дипломатической службы в России. Если вам, как и мне не повезло жить за МКАДом, но Вам очень хочется узнать что-то о дипломатической службе, то можете ознакомится с проектом, который сам по себе интерактивный музей. В нем вы узнаете немного об африканской истории, о том, чему в 20 веке обучали дипломатов, а также сможете узнать, а где собственно готовят дипломатов (спойлер ни одним МГИМО и Дипломатической академией мы едины).
В своей работе Джонатан Харрис рассказывает о проекте обучения африканских дипломатов в пост-колониальную эпоху (1955-1995 гг.), который создали две исследовательницы из Великобритании — Рут Крэггс и Фиона Макконнелл. Идея проекта в том, чтобы показать, в каких иностранных учебных заведениях учились будущие дипломаты из африканских стран, которые только недавно обрели независимость. Этот один из немногих случаев, когда вместо рассказа лучше показать, как выглядело обучение. Только с сетями дипломатов можно увязнуть на часы, рассматривая сети знакомств, а также узнавая, чему учились африканские дипломаты и к какой культурной среде были представлены. Так можно окунуться в историю Африки посредством интерактивной карты, где получится уже не на личностях, но на примере стран и учебных заведений узнать, как проходило обучения африканских послов и дипломатических работников.
Исследовательницы проделали титаническую работу, которой можно только восхищаться. Если Вам интересна Африка, дипломатия или Вы в поисках чего-то нового, то смело заходите на проект и окунитесь в историю черного континента.
Вчера любители “Горе от ума” праздновали день рождение Александра Грибоедова. Для большинства он ассоциируется с литературой, но в действительности он был незаурядным дипломатом. Если Вы живете в Москве, то можете отправиться в Музей международного этикета и культуры и узнать об истории дипломатической службы в России. Если вам, как и мне не повезло жить за МКАДом, но Вам очень хочется узнать что-то о дипломатической службе, то можете ознакомится с проектом, который сам по себе интерактивный музей. В нем вы узнаете немного об африканской истории, о том, чему в 20 веке обучали дипломатов, а также сможете узнать, а где собственно готовят дипломатов (спойлер ни одним МГИМО и Дипломатической академией мы едины).
В своей работе Джонатан Харрис рассказывает о проекте обучения африканских дипломатов в пост-колониальную эпоху (1955-1995 гг.), который создали две исследовательницы из Великобритании — Рут Крэггс и Фиона Макконнелл. Идея проекта в том, чтобы показать, в каких иностранных учебных заведениях учились будущие дипломаты из африканских стран, которые только недавно обрели независимость. Этот один из немногих случаев, когда вместо рассказа лучше показать, как выглядело обучение. Только с сетями дипломатов можно увязнуть на часы, рассматривая сети знакомств, а также узнавая, чему учились африканские дипломаты и к какой культурной среде были представлены. Так можно окунуться в историю Африки посредством интерактивной карты, где получится уже не на личностях, но на примере стран и учебных заведений узнать, как проходило обучения африканских послов и дипломатических работников.
Исследовательницы проделали титаническую работу, которой можно только восхищаться. Если Вам интересна Африка, дипломатия или Вы в поисках чего-то нового, то смело заходите на проект и окунитесь в историю черного континента.
Training Diplomats
Data Visualiser — Training Diplomats
👍39👌1
Границы экономизма
Многие уважаемые социологи, такие как Джеффри Александер или Говард Беккер, критиковали Пьера Бурдье за чрезмерное использование экономических метафор. Мол, они обедняют наше понимание социального, сводя агентов к расчетливым и эгоистичным циникам. С чем-то из этого можно согласиться, но в целом критики куда чаще бьют мимо цели. Главным образом, потому что их альтернативные модели объясняют происходящее вокруг нас еще менее адекватно, чем даже худшие тейки Бурдье о капитале красоты.
Я думаю, что главная проблема общей теорией экономики практик (так называл зрелый Бурдье свой проект) в том, что это не вполне теория. Если сравнить его разные тексты, то там тяжело найти единую терминологию. Иногда Бурдье говорит про производство, иногда – про обмен, иногда – про накопление или инвестиции. Мысль Бурдье похожа на подвижную армию метафор, которые редко выстраиваются в законченное целое. Короче говоря, его «теория» – это что-то вроде отдельных мазков, которые вместе и издалека выглядят впечатляюще, но если всерьез разбирать их по отдельности и вблизи, им не хватает четкости. Как у любимого БурдьеСадио Эдуарда Мане.
Избежать такого импрессионизма, характерного для многих французских авторов, в общем-то можно. Представим, что двойник Бурдье из альтернативной реальности выбрал только одну метафору и строго ее придерживался. Например, метафору обмена. Тут нам не нужен даже такой мысленный эксперимент, потому что Бурдье из мультивселенной существовал. Его звали Питер Блау, жил он в США примерно в то же самое время и как раз пытался создать общую теорию обменов в социальном пространстве. Очень быстро все зашло в тупик, потому что оказалось, что такая теория мало что схватывает.
Парадоксально, но именно расхристанное использование экономического языка делает проект Бурдье сильнее, чем проекты его прямых конкурентов, которые пытались быть более формальными. Возможно, и нам стоит тоже более творчески подходить к экономическому языку. Главное тут – вовремя остановиться в рандомном жонглировании умными словечками, чтобы вместо Бурдье не получился какой-нибудь Батай. Сказать честно, я не знаю, где именно проходит эта тонкая грань между игривой образностью одного и полной дичью второго.
Многие уважаемые социологи, такие как Джеффри Александер или Говард Беккер, критиковали Пьера Бурдье за чрезмерное использование экономических метафор. Мол, они обедняют наше понимание социального, сводя агентов к расчетливым и эгоистичным циникам. С чем-то из этого можно согласиться, но в целом критики куда чаще бьют мимо цели. Главным образом, потому что их альтернативные модели объясняют происходящее вокруг нас еще менее адекватно, чем даже худшие тейки Бурдье о капитале красоты.
Я думаю, что главная проблема общей теорией экономики практик (так называл зрелый Бурдье свой проект) в том, что это не вполне теория. Если сравнить его разные тексты, то там тяжело найти единую терминологию. Иногда Бурдье говорит про производство, иногда – про обмен, иногда – про накопление или инвестиции. Мысль Бурдье похожа на подвижную армию метафор, которые редко выстраиваются в законченное целое. Короче говоря, его «теория» – это что-то вроде отдельных мазков, которые вместе и издалека выглядят впечатляюще, но если всерьез разбирать их по отдельности и вблизи, им не хватает четкости. Как у любимого Бурдье
Избежать такого импрессионизма, характерного для многих французских авторов, в общем-то можно. Представим, что двойник Бурдье из альтернативной реальности выбрал только одну метафору и строго ее придерживался. Например, метафору обмена. Тут нам не нужен даже такой мысленный эксперимент, потому что Бурдье из мультивселенной существовал. Его звали Питер Блау, жил он в США примерно в то же самое время и как раз пытался создать общую теорию обменов в социальном пространстве. Очень быстро все зашло в тупик, потому что оказалось, что такая теория мало что схватывает.
Парадоксально, но именно расхристанное использование экономического языка делает проект Бурдье сильнее, чем проекты его прямых конкурентов, которые пытались быть более формальными. Возможно, и нам стоит тоже более творчески подходить к экономическому языку. Главное тут – вовремя остановиться в рандомном жонглировании умными словечками, чтобы вместо Бурдье не получился какой-нибудь Батай. Сказать честно, я не знаю, где именно проходит эта тонкая грань между игривой образностью одного и полной дичью второго.
👍55👏7👌3✍2
Брайтон-бичская школа социологии
Наконец-то посмотрели с женой расхваленную критиками «Анору». Не могу сказать, что фильм показался мне шедевром, но понравился. В нем действительно нет грандиозного замысла, но как короткая зарисовка об американском обществе в духе О. Генри он работает прекрасно. Хотя какого еще О. Генри? Надо быть патриотом своей дисциплины! В духе Томаса и Знанецкого!
Экосистема Брайтон-Бич, выбранная в качестве места повествования, может заслонять от некоторых зрителей тот факт, что это могла бы быть история любой группы иммигрантов в США. Персонажи: стриптизерша, сын олигарха, пастор и вышибала могли бы представлять Индию, Мексику, Филиппины. Везде был бы примерно один и тот же сюжет.
Кроме того, фильм хорошо иллюстрирует характер труда для миллионов жителей США без образования, а тем более паспорта и языка. По сути, это продажа своего тела в секторе услуг. Секс-индустрия или индустрия заботы для женщин – это очевидно. Но и для мужчин там тоже нет ничего хорошего. Чоповец, собирающий за своих хозяев увечья и приводы в полицию, – это еще довольно удачный вариант.
Наконец-то посмотрели с женой расхваленную критиками «Анору». Не могу сказать, что фильм показался мне шедевром, но понравился. В нем действительно нет грандиозного замысла, но как короткая зарисовка об американском обществе в духе О. Генри он работает прекрасно. Хотя какого еще О. Генри? Надо быть патриотом своей дисциплины! В духе Томаса и Знанецкого!
Экосистема Брайтон-Бич, выбранная в качестве места повествования, может заслонять от некоторых зрителей тот факт, что это могла бы быть история любой группы иммигрантов в США. Персонажи: стриптизерша, сын олигарха, пастор и вышибала могли бы представлять Индию, Мексику, Филиппины. Везде был бы примерно один и тот же сюжет.
Кроме того, фильм хорошо иллюстрирует характер труда для миллионов жителей США без образования, а тем более паспорта и языка. По сути, это продажа своего тела в секторе услуг. Секс-индустрия или индустрия заботы для женщин – это очевидно. Но и для мужчин там тоже нет ничего хорошего. Чоповец, собирающий за своих хозяев увечья и приводы в полицию, – это еще довольно удачный вариант.
👍49👏10🙏7