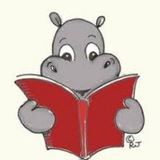Forwarded from Ленивый политолог
В понедельник обсудили в Общественной палате возможные подходы к противодействию иностранному вмешательству в академическую сферу.
Подробно рассказал коллегам про один из наиболее концептуально оформленных документов в этой сфере - рекомендации Еврокомиссии по «Противодействию иностранному вмешательству в области исследований и инноваций».
В документе много интересных формулировок. Например, одной из возможных тактик вмешательства называется "рекрутирование кадров на стратегически важные позиции посредством социальной инженерии, подкупа, шантажа, запугивания, а также отбор и назначение на стратегически важные позиции «своих» людей".
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/05/17/975388-zaschite-vuzov-ot-inostrannogo-vmeshatelstva-budut-uchitsya-u-inostrantsev
Подробно рассказал коллегам про один из наиболее концептуально оформленных документов в этой сфере - рекомендации Еврокомиссии по «Противодействию иностранному вмешательству в области исследований и инноваций».
В документе много интересных формулировок. Например, одной из возможных тактик вмешательства называется "рекрутирование кадров на стратегически важные позиции посредством социальной инженерии, подкупа, шантажа, запугивания, а также отбор и назначение на стратегически важные позиции «своих» людей".
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/05/17/975388-zaschite-vuzov-ot-inostrannogo-vmeshatelstva-budut-uchitsya-u-inostrantsev
Ведомости
Защите вузов от иностранного вмешательства будут учиться у иностранцев
В Общественной палате предлагают разработать методы противодействия влиянию на образование
😁1
Forwarded from Lace Wars | Историк Александр Свистунов
#lacewars_Истории
Уголовные процессы над животными
В 1494 году во французском монастыре судили свинью. Все ее преступление заключалось в том, что она «вошла в дом и изуродовала лицо ребенка, после чего ребенок ушел из этой жизни». Председательствующий судья Жан Левуазье заявил, что «упомянутый поросенок, ныне задержанный в качестве узника и заключенный в указанном аббатстве, должен быть повешен и задушен умелым душегубом на деревянной балке рядом с виселицей и местом казни». Это был не единичный случай. В Средние века ни одно животное — от насекомых до крупного скота — не освобождалось от платы за последствия своих действий.
На протяжении нескольких столетий животные и насекомые преследовались по всей Европе. Они предстали перед церковными и светскими судами по тем или иным обвинениям, начиная от причинения ущерба в преступных целях и заканчивая убийством. Их интересы представляли юристы, и им были дарованы те же права и обязанности, что и людям. В книге Эдварда Пейсонса Эванса «Уголовное преследование и смертная казнь животных» (1906 год) содержатся описания десятков подобных уголовных процессов. Самым ранним из зафиксированных случаев было судебное преследование группы кротов в Валле д'Аоста в 824 году. Это прозвучит дико, но домашние животные частенько нарушали закон. В 1750 году ослица была привлечена к ответственности за то, что ее «взяли во время полового акта» со своим хозяином-человеком. Ее оправдали, поскольку прежде она отличалась хорошим поведением: она всегда «показывала себя добродетельной и воспитанной» скотиной. В 1596 году судебная власть Марселя возбудила дело против стайки дельфинов. В 1542 году во французском городе Рувр судили шестнадцать коров и козу. Однако животное, которое чаще всего оказывалось на скамье подсудимых — это свинья.
Некоторые юристы буквально сделали себе карьеры на процессах над животными. В XVI веке французский адвокат по имени Бартоломью Шассене защищал «некоторых крыс, которые предстали перед церковным судом Отена по обвинению в преступном поедании и бессмысленном уничтожении урожая ячменя в этой провинции». Он утверждал, что извещение, предписывающее крысам предстать перед судом, не была в должной мере предъявлена крысиной популяции и что многие крысы не могли явиться в суд из-за «длины и трудности пути и серьезных опасностей, которые его сопровождали», а именно – соседских кошек. Шассени проиграл дело, но заработал репутацию находчивого адвоката.
Когда виновных животных приговаривали к смертной казни, их казнили, по-видимому, предварительно облачая в человеческую одежду. В 1386 году козел был признан виновным в нападении на ребенка. Его «одели в мужскую одежду и казнили на площади».
Но почему вообще люди судили животных? Разве не очевидно, что к тем не могут быть применимы столь привычные нам критерии морали? В Средние века жизнь была суровой. Люди пытались определить свое место в замыслах Бога и еще до конца не понимали, как им стоит воспринимать животных. Поэтому судебные тяжбы в отношении животных были важными ритуалами, которые помогали людям контролировать неопределенность жизни и символически подчинять все сущее своей морали.
Подпишись на канал и узнай больше!
Уголовные процессы над животными
В 1494 году во французском монастыре судили свинью. Все ее преступление заключалось в том, что она «вошла в дом и изуродовала лицо ребенка, после чего ребенок ушел из этой жизни». Председательствующий судья Жан Левуазье заявил, что «упомянутый поросенок, ныне задержанный в качестве узника и заключенный в указанном аббатстве, должен быть повешен и задушен умелым душегубом на деревянной балке рядом с виселицей и местом казни». Это был не единичный случай. В Средние века ни одно животное — от насекомых до крупного скота — не освобождалось от платы за последствия своих действий.
На протяжении нескольких столетий животные и насекомые преследовались по всей Европе. Они предстали перед церковными и светскими судами по тем или иным обвинениям, начиная от причинения ущерба в преступных целях и заканчивая убийством. Их интересы представляли юристы, и им были дарованы те же права и обязанности, что и людям. В книге Эдварда Пейсонса Эванса «Уголовное преследование и смертная казнь животных» (1906 год) содержатся описания десятков подобных уголовных процессов. Самым ранним из зафиксированных случаев было судебное преследование группы кротов в Валле д'Аоста в 824 году. Это прозвучит дико, но домашние животные частенько нарушали закон. В 1750 году ослица была привлечена к ответственности за то, что ее «взяли во время полового акта» со своим хозяином-человеком. Ее оправдали, поскольку прежде она отличалась хорошим поведением: она всегда «показывала себя добродетельной и воспитанной» скотиной. В 1596 году судебная власть Марселя возбудила дело против стайки дельфинов. В 1542 году во французском городе Рувр судили шестнадцать коров и козу. Однако животное, которое чаще всего оказывалось на скамье подсудимых — это свинья.
Некоторые юристы буквально сделали себе карьеры на процессах над животными. В XVI веке французский адвокат по имени Бартоломью Шассене защищал «некоторых крыс, которые предстали перед церковным судом Отена по обвинению в преступном поедании и бессмысленном уничтожении урожая ячменя в этой провинции». Он утверждал, что извещение, предписывающее крысам предстать перед судом, не была в должной мере предъявлена крысиной популяции и что многие крысы не могли явиться в суд из-за «длины и трудности пути и серьезных опасностей, которые его сопровождали», а именно – соседских кошек. Шассени проиграл дело, но заработал репутацию находчивого адвоката.
Когда виновных животных приговаривали к смертной казни, их казнили, по-видимому, предварительно облачая в человеческую одежду. В 1386 году козел был признан виновным в нападении на ребенка. Его «одели в мужскую одежду и казнили на площади».
Но почему вообще люди судили животных? Разве не очевидно, что к тем не могут быть применимы столь привычные нам критерии морали? В Средние века жизнь была суровой. Люди пытались определить свое место в замыслах Бога и еще до конца не понимали, как им стоит воспринимать животных. Поэтому судебные тяжбы в отношении животных были важными ритуалами, которые помогали людям контролировать неопределенность жизни и символически подчинять все сущее своей морали.
Подпишись на канал и узнай больше!
✍1👍1
Достойная книжка последних нескольких лет итальянского автора Роберто Эспосито (не путать с Деспосито) – «Формируя мышление: три парадигмы политической онтологии».
Для тех, кто не первый год занимается политической наукой или чем-то смежным (например, международными отношениями), не станет новостью утверждение: «мы часто понятия не имеем, чем мы занимаемся». В этом чем-то – суть большинства дебатов ученых.
Эспосито полагает, что можно выделить три ответа на вопрос «что мы изучаем?». Первый подход – ограничительный. Мы вспоминаем про древнегреческие полисы, видим в них недостижимый идеал. Но этот образ подразумевает, что политическое получилось из неполитического. Каждый раз выясняя какой-либо вопрос, мы рассматриваем идеал древнегреческого полиса и видим, как политическое соотносится с неполитическим. Как известно, большинство вопросов граждане решали на площади, а потом расходились по домам и решали бытовые вопросы.
То есть, каждый раз политическое появляется через отрицание. Это отрицание как бы отвергает существование политического и, тем не менее, его порождает. И потому получается, что мы изучаем связку «бытие-политика» через противопоставление политического и неполитического. Дальше идет оригинальный аргумент: поскольку в неполитическом есть только отрицание и нечего позитивного (а иначе для чего приставка «не»?), то в нем нет справедливости, равенства, ценностей. И вопрос для ученых – а насколько в политике что-то из этого есть? В чем мы отрицаем неполитическое, когда предполагаем существование или даже боремся за высокие идеалы?
Второй подход – расширительный. В принципе, тезис о разделении политического и неполитического противоречит идее единства бытия. При всем разнообразии мира есть некие уникальные формы существования, которые невозможны в разделенном виде и даны только в целостности. Различие – присутствует в мире, но это не ответ на фундаментальный вопрос «что?». В то же время, в этом подходе целостность тоже не абсолютная – времена немецких идеалистов прошли, на место Абсолютного Духа приходит суперпозиция (наложение разных эффектов, их взаимное влияние и комбинирование).
Политика и бытие оказываются в суперпозиции, переплетаются – вплоть до неотделимости. В таких взаимоотношениях нет завершенности, все постоянно формируется, но не сформируется. Соответственно, бытие – это постоянный акт творения (даже творения через разрушение), как собственно и политика. А, значит, вопрос о справедливости или равенстве задавать просто нет смысла, так как в завершенном виде принципов и оснований справедливости или равенства не найти. Вместо этого – творение, производство, креатив.
Третий подход – формирующий. Основная идея – взять среднюю линию между ограничительным и расширительным подходами. Нам не важно, един мир или двойственен. Главное, что есть несколько точек зрения на этот вопрос – и само наличие разногласий дает нам социальную напряженность. Напряженность – это хорошо, это то, чем можно распорядиться. Вопрос лишь в том, как это сделать. И самое главное – невозможно существовать, если не реагировать на эту напряженность.
То, что порождено напряженностью между разными точками зрения, и то, что каким-то образом упорядочивает эту напряженность (в том числе, ее воспроизводит) – и есть политическое/политика. Важную роль в упорядочивании играет знание – людям в какой-то форме дается объяснение происходящего с напряженностью, понимание желательных моделей поведения. Тем самым, политика во многом приравнивается к функционированию политических институтов (в том числе, неформальных). Вероятно, это самый простой ответ на вопрос «Что мы изучаем?» и, все же, не самый точный.
https://www.wiley.com/en-us/Instituting+Thought:+Three+Paradigms+of+Political+Ontology-p-9781509546428
Для тех, кто не первый год занимается политической наукой или чем-то смежным (например, международными отношениями), не станет новостью утверждение: «мы часто понятия не имеем, чем мы занимаемся». В этом чем-то – суть большинства дебатов ученых.
Эспосито полагает, что можно выделить три ответа на вопрос «что мы изучаем?». Первый подход – ограничительный. Мы вспоминаем про древнегреческие полисы, видим в них недостижимый идеал. Но этот образ подразумевает, что политическое получилось из неполитического. Каждый раз выясняя какой-либо вопрос, мы рассматриваем идеал древнегреческого полиса и видим, как политическое соотносится с неполитическим. Как известно, большинство вопросов граждане решали на площади, а потом расходились по домам и решали бытовые вопросы.
То есть, каждый раз политическое появляется через отрицание. Это отрицание как бы отвергает существование политического и, тем не менее, его порождает. И потому получается, что мы изучаем связку «бытие-политика» через противопоставление политического и неполитического. Дальше идет оригинальный аргумент: поскольку в неполитическом есть только отрицание и нечего позитивного (а иначе для чего приставка «не»?), то в нем нет справедливости, равенства, ценностей. И вопрос для ученых – а насколько в политике что-то из этого есть? В чем мы отрицаем неполитическое, когда предполагаем существование или даже боремся за высокие идеалы?
Второй подход – расширительный. В принципе, тезис о разделении политического и неполитического противоречит идее единства бытия. При всем разнообразии мира есть некие уникальные формы существования, которые невозможны в разделенном виде и даны только в целостности. Различие – присутствует в мире, но это не ответ на фундаментальный вопрос «что?». В то же время, в этом подходе целостность тоже не абсолютная – времена немецких идеалистов прошли, на место Абсолютного Духа приходит суперпозиция (наложение разных эффектов, их взаимное влияние и комбинирование).
Политика и бытие оказываются в суперпозиции, переплетаются – вплоть до неотделимости. В таких взаимоотношениях нет завершенности, все постоянно формируется, но не сформируется. Соответственно, бытие – это постоянный акт творения (даже творения через разрушение), как собственно и политика. А, значит, вопрос о справедливости или равенстве задавать просто нет смысла, так как в завершенном виде принципов и оснований справедливости или равенства не найти. Вместо этого – творение, производство, креатив.
Третий подход – формирующий. Основная идея – взять среднюю линию между ограничительным и расширительным подходами. Нам не важно, един мир или двойственен. Главное, что есть несколько точек зрения на этот вопрос – и само наличие разногласий дает нам социальную напряженность. Напряженность – это хорошо, это то, чем можно распорядиться. Вопрос лишь в том, как это сделать. И самое главное – невозможно существовать, если не реагировать на эту напряженность.
То, что порождено напряженностью между разными точками зрения, и то, что каким-то образом упорядочивает эту напряженность (в том числе, ее воспроизводит) – и есть политическое/политика. Важную роль в упорядочивании играет знание – людям в какой-то форме дается объяснение происходящего с напряженностью, понимание желательных моделей поведения. Тем самым, политика во многом приравнивается к функционированию политических институтов (в том числе, неформальных). Вероятно, это самый простой ответ на вопрос «Что мы изучаем?» и, все же, не самый точный.
https://www.wiley.com/en-us/Instituting+Thought:+Three+Paradigms+of+Political+Ontology-p-9781509546428
Wiley.com
Instituting Thought: Three Paradigms of Political Ontology
<p>This new book by the Italian philosopher Roberto Esposito addresses the profound crisis of contemporary politics and examines some of the philosophical approaches that have been used to try to understand and go beyond this crisis. Two approaches have…
❤2✍1🔥1
в тему запрета слова "инфоцыгане" попросил искусственный интеллект нарисовать что-то на тему "инфоцыгане уходят в небо".
очень политкорректно вышло, некоторых героев не узнать. Одно могу сказать точно, само явление не исчезнет, а ведь оно опаснее, чем любые слова (даже обидные).
зато можно предложить эти картинки для обложек дешевых фэнтезийных или любовных романов
очень политкорректно вышло, некоторых героев не узнать. Одно могу сказать точно, само явление не исчезнет, а ведь оно опаснее, чем любые слова (даже обидные).
зато можно предложить эти картинки для обложек дешевых фэнтезийных или любовных романов
✍3
Интересный механизм преемственности, который не бьется с бюрократической логикой. Столкновение неизбежно.
❤1
Forwarded from Желтая книга
Для гурманов. Политические проблемы определения инкарнаций высокоранговых лам
https://profile.ru/abroad/kakie-problemy-sozdaet-knr-izbranie-mongolskogo-malchika-novym-bogdo-gegenom-1323784/
https://profile.ru/abroad/kakie-problemy-sozdaet-knr-izbranie-mongolskogo-malchika-novym-bogdo-gegenom-1323784/
Профиль
Какие проблемы создает КНР избрание монгольского мальчика новым Богдо-гэгэном
На севере Индии есть штат Химачал-Прадеш – «страна снежных гор», издревле считавшихся местом пребывания богов. Там среди густых хвойных лесов притулился
Последние два десятилетия мировая наука потратила на изобличение популизма. Дескать, это если и идеология, то неправильная, с ослабленным ядром. Либо же это некая надстройка/насадка на другие идеологии, которая искажает исходную пользу идеологий. Либо же это предвестник идейного упадка, в котором виноваты, в первую очередь, граждане, разочаровавшиеся в классических идеологиях.
Немного другую точку зрения предлагают авторы книжки Giurlando P., Wajner D. F. (ed.). Populist Foreign Policy: Regional Perspectives of Populism in the International Scene. – Springer Nature, 2023.
Оказалось, что при всей расплывчатости популизма (левого и правого, и всякого другого) – в сфере внешней политики он выступает за достаточно конкретные и понятные вещи. Практически любому популизму не нравится международная финансовая система и стоящий за ней транснациональный бизнес. Рецепты могут разнится – тут и выход из международных организаций и соглашений, и налоговые и тарифные ограничения, и повышение открытости «мировых элит».
Кроме того, практически любому популизму не нравится глобализация и региональная интеграция – слишком большая политическая и экономическая зависимость государств от внешних центров принятия решения и источников ресурсов. Причем, не нравится не только как продукт деятельности «мировых элит», но и как естественный процесс, который лишает государства главного – возможности что-то решить внутри.
Еще популизму очень не нравятся конкретные социальные группы – эксперты и бюрократы. С точки зрения популистов, сложные модели и запутанные процедуры принятия решений выхолащивают смысл и не обеспечивают реального представительства интересов населения. Поскольку экспертов и бюрократов никто не избирает, получается, что небольшая группа людей искажает или даже присваивает процесс принятия решений. Популисты видят в этом огромную несправедливость и предлагают вместо этого два варианта принятия решений – либо создание ситуативных механизмов, либо централизацию процесса («вождизм»). И в том, и в другом случае простое население хотя бы сможет высказать свою позицию, даже если научно и бюрократически она (позиция) не выдерживает критики.
Несколько раз в описании популизма проскальзывал глагол «не нравиться». А что же популизму нравится? А нравятся весьма логичные вещи – активное вовлечение населения в политические процессы, здравый смысл как опора для выбора вариантов принимаемых решений и политические движения, которые выходят за рамки привычных шаблонов и предлагают что-то нестандартное.
Конечно, авторы книги не смогли удержаться от критического подхода. Вот характерный кусочек: «используя различные средства пропаганды, включая драмы, скандалы и теории заговора, популистские лидеры воссоздают эмоциональную атмосферу мученичества и героизма перед лицом региональной и мировой общественности, подстегивают ощущение постоянного кризиса и давления, а также убеждение, что победа уже где-то рядом». Однако ценнее их признание, что популизм стал «набирающим обороты глобальным феноменом». Популисты будут приходить и уходить, а популизм останется.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-22773-8
Немного другую точку зрения предлагают авторы книжки Giurlando P., Wajner D. F. (ed.). Populist Foreign Policy: Regional Perspectives of Populism in the International Scene. – Springer Nature, 2023.
Оказалось, что при всей расплывчатости популизма (левого и правого, и всякого другого) – в сфере внешней политики он выступает за достаточно конкретные и понятные вещи. Практически любому популизму не нравится международная финансовая система и стоящий за ней транснациональный бизнес. Рецепты могут разнится – тут и выход из международных организаций и соглашений, и налоговые и тарифные ограничения, и повышение открытости «мировых элит».
Кроме того, практически любому популизму не нравится глобализация и региональная интеграция – слишком большая политическая и экономическая зависимость государств от внешних центров принятия решения и источников ресурсов. Причем, не нравится не только как продукт деятельности «мировых элит», но и как естественный процесс, который лишает государства главного – возможности что-то решить внутри.
Еще популизму очень не нравятся конкретные социальные группы – эксперты и бюрократы. С точки зрения популистов, сложные модели и запутанные процедуры принятия решений выхолащивают смысл и не обеспечивают реального представительства интересов населения. Поскольку экспертов и бюрократов никто не избирает, получается, что небольшая группа людей искажает или даже присваивает процесс принятия решений. Популисты видят в этом огромную несправедливость и предлагают вместо этого два варианта принятия решений – либо создание ситуативных механизмов, либо централизацию процесса («вождизм»). И в том, и в другом случае простое население хотя бы сможет высказать свою позицию, даже если научно и бюрократически она (позиция) не выдерживает критики.
Несколько раз в описании популизма проскальзывал глагол «не нравиться». А что же популизму нравится? А нравятся весьма логичные вещи – активное вовлечение населения в политические процессы, здравый смысл как опора для выбора вариантов принимаемых решений и политические движения, которые выходят за рамки привычных шаблонов и предлагают что-то нестандартное.
Конечно, авторы книги не смогли удержаться от критического подхода. Вот характерный кусочек: «используя различные средства пропаганды, включая драмы, скандалы и теории заговора, популистские лидеры воссоздают эмоциональную атмосферу мученичества и героизма перед лицом региональной и мировой общественности, подстегивают ощущение постоянного кризиса и давления, а также убеждение, что победа уже где-то рядом». Однако ценнее их признание, что популизм стал «набирающим обороты глобальным феноменом». Популисты будут приходить и уходить, а популизм останется.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-22773-8
✍5👍1🔥1
сегодня День Африки (и еще День клоуна в Перу - не знаю, чем так особенны перуанские клоуны). Много будет дежурных фраз о сотрудничестве и прочем. Просто выложу свой старый текст о том, что желания и возможности мало, нужна стратегия.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/politika-rossii-v-menyayushchey-afrike-v-poiskakh-strategii/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/politika-rossii-v-menyayushchey-afrike-v-poiskakh-strategii/
РСМД
Политика России в меняющейся Африке: в поисках стратегии
В последние 15 лет все больше начали говорить о возвращении России в Африку. Важен сам глагол: именно возвращается, а не возвратилась. Тем самым формируется тезис о том, что быстрых успехов на африканском направлении российской внешней политики, вероятно…
❤4❤🔥2
теперь видимо времени будет побольше, ехать на работу пока не надо. есть время посмотреть шикарного Стоянова
https://www.youtube.com/watch?v=mvTg0-UOMF0
https://www.youtube.com/watch?v=mvTg0-UOMF0
YouTube
Юрий Стоянов | Как стал вампиром. Роль в Брат 2 и Приколы Городка. МУЗLOFT #56
Поддержать команду МУЗLOFT:
https://donatty.com/stasyarushin
МУЗLOFT на RUTUBE с уникальным контентом: https://rutube.ru/channel/23751621
00:00 В этом выпуске
00:45 Юрий Стоянов – «Ленинградская»
01:52 Неожиданное "ложанто"
06:50 Смотри на RUTUBE новый…
https://donatty.com/stasyarushin
МУЗLOFT на RUTUBE с уникальным контентом: https://rutube.ru/channel/23751621
00:00 В этом выпуске
00:45 Юрий Стоянов – «Ленинградская»
01:52 Неожиданное "ложанто"
06:50 Смотри на RUTUBE новый…
❤5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
хорошая иллюстрация для политического абсентеизма. Некоторые полагают, что в этом больше протеста, чем лени. Но лени всегда больше...
🤔2
Логически комичный текст о праве человека на принадлежность к сообществу.
Khwaja A. A human right to political membership & the right to territory //Journal of International Political Theory. – 2023.
Тема коллективных прав традиционно непростая, поскольку сама доктрина прав человека возникла в индивидуалистской политической философии. Гроций, Гоббс, Локк и все вслед за ними рассуждали о правах конкретного человека и о том, какой минимальный набор этих прав у него есть при рождении, а что, соответственно, нужно к этому набору добавить.
Автор отталкивается от права на гостеприимство, которое Кант предложил в трактате «К Вечному миру». Основная идея этого права – люди могут посетить другие страны, заниматься там торговлей или чем-то другим. Пока визитеры находятся в стране, их желательно не убивать и не грабить. А они, в свою очередь, не должны скупать земли, заниматься шпионажем и саботажем. И в любой момент местные власти могут попросить их покинуть свою территорию – может даже, немотивированно, просто потому, что так и работает суверенитет, верховенство над какой-то территорией.
Из этого права на гостеприимство автор пытается вывести особые права коренных народов. Делается это так.
1) Автор доказывает, что право на гостеприимство касается не только тех, кто приехал из какого-то конкретного государства и может туда уехать. То есть, у «людей без государства» тоже могут быть права на гостеприимство (например, у беженцев).
2) Автор осторожно утверждает, что Кант – немного расист и сексист, а потому его тезисы нужно обновить, включить в них неевропейский опыт.
3) Автор настаивает, что колониализм европейцев был большой несправедливостью. А пострадали от этого коренные народы, у которых были свои обычаи и традиции. И было бы несправедливо налагать какие-то обязательства. А вот какие-то права – дать обязательно нужно, чтобы исправить несправедливость. (это называется ретрибутивной справедливостью).
4) А какие именно права? Те, которые бы позволили в рамки конкретного государства –правопреемника колонии втиснуть весь комплекс взаимоотношений, который Кант предлагал сделать на глобальном уровне. А это значит, что внутри государств нужно признать особые права коренных народов и что внутри государств в рамках особых юрисдикций этих народов все остальные граждане будут пользоваться кантовским правом на гостеприимство.
5) Почему именно так? Раз жители бывших колоний и коренные народы равны в праве на гостеприимство (см. пункт 1), то можно пренебречь кантовским убеждением, что права возникают только в политически и юридически развитых обществах (см. пункт 2). То есть, на лицо дисбаланс - у некоренных граждан бывших колоний что-то есть, а у коренных жителей - нет. И это нужно исправить (см. пункт 3).
Это называет контекстно-ориентированная интерпретация творчества Канта. Если бы такая странная логика была единичным случаем, то я бы не решился на этот пост. Но, к сожалению, это массовый продукт в зарубежной науке. Контекстно-ориентированные интерпретации – это патент на академическое безумие. И наша задача отечественных ученых – немного разгрузиться от студенческих работ и феерии экзаменов, а потом дать этому безумию хоть какой-то отпор. А пока контрольные, экзамены, госы...
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/17550882231169489
Khwaja A. A human right to political membership & the right to territory //Journal of International Political Theory. – 2023.
Тема коллективных прав традиционно непростая, поскольку сама доктрина прав человека возникла в индивидуалистской политической философии. Гроций, Гоббс, Локк и все вслед за ними рассуждали о правах конкретного человека и о том, какой минимальный набор этих прав у него есть при рождении, а что, соответственно, нужно к этому набору добавить.
Автор отталкивается от права на гостеприимство, которое Кант предложил в трактате «К Вечному миру». Основная идея этого права – люди могут посетить другие страны, заниматься там торговлей или чем-то другим. Пока визитеры находятся в стране, их желательно не убивать и не грабить. А они, в свою очередь, не должны скупать земли, заниматься шпионажем и саботажем. И в любой момент местные власти могут попросить их покинуть свою территорию – может даже, немотивированно, просто потому, что так и работает суверенитет, верховенство над какой-то территорией.
Из этого права на гостеприимство автор пытается вывести особые права коренных народов. Делается это так.
1) Автор доказывает, что право на гостеприимство касается не только тех, кто приехал из какого-то конкретного государства и может туда уехать. То есть, у «людей без государства» тоже могут быть права на гостеприимство (например, у беженцев).
2) Автор осторожно утверждает, что Кант – немного расист и сексист, а потому его тезисы нужно обновить, включить в них неевропейский опыт.
3) Автор настаивает, что колониализм европейцев был большой несправедливостью. А пострадали от этого коренные народы, у которых были свои обычаи и традиции. И было бы несправедливо налагать какие-то обязательства. А вот какие-то права – дать обязательно нужно, чтобы исправить несправедливость. (это называется ретрибутивной справедливостью).
4) А какие именно права? Те, которые бы позволили в рамки конкретного государства –правопреемника колонии втиснуть весь комплекс взаимоотношений, который Кант предлагал сделать на глобальном уровне. А это значит, что внутри государств нужно признать особые права коренных народов и что внутри государств в рамках особых юрисдикций этих народов все остальные граждане будут пользоваться кантовским правом на гостеприимство.
5) Почему именно так? Раз жители бывших колоний и коренные народы равны в праве на гостеприимство (см. пункт 1), то можно пренебречь кантовским убеждением, что права возникают только в политически и юридически развитых обществах (см. пункт 2). То есть, на лицо дисбаланс - у некоренных граждан бывших колоний что-то есть, а у коренных жителей - нет. И это нужно исправить (см. пункт 3).
Это называет контекстно-ориентированная интерпретация творчества Канта. Если бы такая странная логика была единичным случаем, то я бы не решился на этот пост. Но, к сожалению, это массовый продукт в зарубежной науке. Контекстно-ориентированные интерпретации – это патент на академическое безумие. И наша задача отечественных ученых – немного разгрузиться от студенческих работ и феерии экзаменов, а потом дать этому безумию хоть какой-то отпор. А пока контрольные, экзамены, госы...
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/17550882231169489
🤔2😁1😢1
Forwarded from Ленивый политолог
По просьбе «Актуальных комментариев» поделился своим видением последних законодательных инициатив по иноагентам в контексте противодействия иностранному вмешательству.
https://actualcomment.ru/napryazhenie-vokrug-temy-inostrannogo-vmeshatelstva-budet-narastat-2305301732.html
https://actualcomment.ru/napryazhenie-vokrug-temy-inostrannogo-vmeshatelstva-budet-narastat-2305301732.html
Актуальные комментарии
Напряжение вокруг темы иностранного вмешательства будет нарастать
Госдума в июне планирует в первом чтении рассмотреть законопроект о наказании за помощь иноагентам, который введет штрафы для нарушителей до 300 000 рублей. Журналист «Актуальных комментариев» спросил у эксперта Центра политической конъюнктуры, заместителя…
Forwarded from БайБайден
Ровно 112 лет назад был спущен на воду британский трансатлантический лайнер «Титаник». Всем хорошо известен фильм Джеймса Кэмерона, построенный вокруг романтической истории Розы (Кейт Уинслет) и Джека (Леонардо Ди Каприо). Но были ли такие люди на самом деле? Рассказывает «БайБайден».
На борту третьего класса «Титаника» действительно путешествовала 39-летняя Роза Эббот вместе со своими сыновьями. К сожалению, мальчики погибли, когда корабль разломило на две части и он стремительно пошел ко дну.
А вот Розу, как и в фильме, удалось спасти. Еле живую женщину чудом заметили пассажиры 13-й шлюпки и подняли на борт, сохранив ей жизнь. Она дожила до внушительных 73 лет.
Джек Доусон, конечно, полностью выдуманный персонаж. Однако могилу человека с похожим именем позже нашли на канадском кладбище. Там похоронен 23-летний Джозеф Доусен.
Он был кочегаром из Дублина, погибшим на «Титанике». Уже много лет фанаты фильма предпочитают думать, что это могила их героя, и приносят к ней цветы.
👍 БайБайден. Подписаться
На борту третьего класса «Титаника» действительно путешествовала 39-летняя Роза Эббот вместе со своими сыновьями. К сожалению, мальчики погибли, когда корабль разломило на две части и он стремительно пошел ко дну.
А вот Розу, как и в фильме, удалось спасти. Еле живую женщину чудом заметили пассажиры 13-й шлюпки и подняли на борт, сохранив ей жизнь. Она дожила до внушительных 73 лет.
Джек Доусон, конечно, полностью выдуманный персонаж. Однако могилу человека с похожим именем позже нашли на канадском кладбище. Там похоронен 23-летний Джозеф Доусен.
Он был кочегаром из Дублина, погибшим на «Титанике». Уже много лет фанаты фильма предпочитают думать, что это могила их героя, и приносят к ней цветы.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✍2