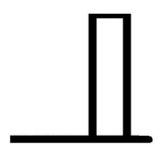Ты пишешь, что – один, один.
Милый друг, мы все — одни. Самое чувство одиночества, такого одиночества, какое Ты испытываешь, есть уже светлая весть.
Мир не приемлет Тебя: мать земля расступается, и Тебе кажется, что Ты проваливаешься. О, поскорей бы мы все вывалились из культуры, из всего, из чего только можно вывалиться.
Только тогда образуется катакомба, о которой все что-то грезится.
Верю в Тебя, и все-таки, хоть и один Ты, протягиваю руки. Пусть Тебе кажется, что Ты один, а я скажу — я с Тобой. Хочешь или не хочешь. Я где-то рядом, хотя Ты меня можешь не видеть и не слышать».
Из письма Андрея Белого Александру Блоку, 6 февраля, 1912
Милый друг, мы все — одни. Самое чувство одиночества, такого одиночества, какое Ты испытываешь, есть уже светлая весть.
Мир не приемлет Тебя: мать земля расступается, и Тебе кажется, что Ты проваливаешься. О, поскорей бы мы все вывалились из культуры, из всего, из чего только можно вывалиться.
Только тогда образуется катакомба, о которой все что-то грезится.
Верю в Тебя, и все-таки, хоть и один Ты, протягиваю руки. Пусть Тебе кажется, что Ты один, а я скажу — я с Тобой. Хочешь или не хочешь. Я где-то рядом, хотя Ты меня можешь не видеть и не слышать».
Из письма Андрея Белого Александру Блоку, 6 февраля, 1912
Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек.
Я был литератор, и литераторы все тщеславны, завистливы, я, по крайней мере, такой литератор. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним — никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость. Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое.
И вдруг за обедом — я один обедал, опоздал — читаю: умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу».
Из письма Льва Толстого Николаю Страхову после смерти Достоевского, февраль 1881. Достоевский умер 9 февраля (по новому стилю) 1881.
Я был литератор, и литераторы все тщеславны, завистливы, я, по крайней мере, такой литератор. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним — никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость. Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое.
И вдруг за обедом — я один обедал, опоздал — читаю: умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу».
Из письма Льва Толстого Николаю Страхову после смерти Достоевского, февраль 1881. Достоевский умер 9 февраля (по новому стилю) 1881.
Объясните что такое фотуризм и почему его критикуют
#вопрос_Маяковскому для некоторых так и остался без ответа.
#вопрос_Маяковскому для некоторых так и остался без ответа.